Как не превратить сознание Кришны в религию
Бхакти Вигьяна Госвами, 25.01.2025.
Эта статья — плод моих размышлений над процессами, происходящими в нашем Обществе. Первое поколение преданных — непосредственные ученики Шрилы Прабхупады — уходит, передавая его миссию следующему поколению. Одновременно с этим происходит социализация ИСККОН — наше Общество, ставшее массовым во многих странах мира, особенно в Индии, получает признание на самых разных уровнях.
Вроде бы не о чем беспокоиться – вайшнавы второго и третьего поколения принимают на себя все больше ответственности, а ИСККОН уверенно идет по пути, проложенному другими религиями, которые из гонимых сект постепенно превратились в уважаемые религиозные организации с весом и влиянием в обществе. Однако, увлекшись внешними успехами нашей проповеди, можно не заметить другие процессы, неминуемо сопровождающие социализацию, – процессы обмирщения духовного движения и превращения его из революционной силы, возвышающей душу над материей, в одну из противоборствующих политических сил этого мира.
Увлекшись внешними успехами нашей проповеди, можно не заметить процессы, неминуемо сопровождающие социализацию.
Вроде бы не о чем беспокоиться – вайшнавы второго и третьего поколения принимают на себя все больше ответственности, а ИСККОН уверенно идет по пути, проложенному другими религиями, которые из гонимых сект постепенно превратились в уважаемые религиозные организации с весом и влиянием в обществе. Однако, увлекшись внешними успехами нашей проповеди, можно не заметить другие процессы, неминуемо сопровождающие социализацию, – процессы обмирщения духовного движения и превращения его из революционной силы, возвышающей душу над материей, в одну из противоборствующих политических сил этого мира.
Вот как Википедия описывает обмирщение в христианстве:
«Обмирще́ние в христианстве – процесс переориентации церкви на решение проблем мирской жизни, что противопоставляется изначальной высокодуховной и священной задаче спасения души человека и обретению Жизни вечной. Обмирщение священнослужителей может выражаться в занятиях коммерцией, в стремлении к привилегиям, к материальным благам, к почетным должностям; в слиянии с государственной властью».
Если поменять терминологию на привычную нам, то может получиться вполне узнаваемая картина происходящего сейчас в ИСККОН. Очевидно, что Шрила Прабхупада меньше всего хотел, чтобы такая участь постигла его детище. К счастью, эти процессы зашли не далеко, и их еще не поздно остановить и повернуть вспять. В этой статье я анализирую сложившуюся ситуацию с точки зрения двух подходов к сознанию Кришны: как к одной из религий этого мира или как к пути, на котором можно найти Истину. В конце я предлагаю некоторые способы решения этой проблемы.
Проводя этот анализ, я не претендую на полноту и даже на беспристрастность – какие-то моменты я сознательно утрирую, чтобы привлечь внимание к проблеме. Статья написана для всех членов нашего Общества, которым небезразлична его судьба. Кто знает, может быть, в картине, нарисованной здесь, мы увидим самих себя и сможем поменять что-то в своем поведении и своем отношении к духовной практике? В конце концов, наше Общество состоит из множества людей, и правильно выбранный каждым из нас вектор движения поможет нам сохранить чистоту и верность изначальной идее Шрилы Прабхупады.
Другая аудитория, которой адресовано это послание, – лидеры ИСККОН разных уровней – от членов ДжиБиСи и духовных учителей до ведущих нама-хатт. В попытках утвердить Движение сознания Кришны в этом мире, сделать его максимально приемлемым для как можно большего числа людей лидеры иногда вынуждены идти на компромиссы, при этом они* далеко не всегда отдают себе отчет в том, к каким последствиям это может привести. Будущее ИСККОН находится в их руках, и ответственность, которая возложена на них, очень высока.
Описывая тенденции, существующие в нашем Обществе, я далек от желания кого-то обличить. Я прекрасно знаю, какой труд стоит за каждым достижением ИСККОН, за каждым открытым храмом, каждой благотворительной программой или даже новой успешной группой общения. Эта статья – не укор и не обвинение, а приглашение к размышлению над возникающими проблемами. Если мои мысли вслух помогут хотя бы одному лидеру яснее увидеть картину и понять, что нужно делать, я буду считать, что она написана не зря. У тех же, кого она побеспокоит или возмутит, я заранее прошу прощения.
Проводя этот анализ, я не претендую на полноту и даже на беспристрастность – какие-то моменты я сознательно утрирую, чтобы привлечь внимание к проблеме. Статья написана для всех членов нашего Общества, которым небезразлична его судьба. Кто знает, может быть, в картине, нарисованной здесь, мы увидим самих себя и сможем поменять что-то в своем поведении и своем отношении к духовной практике? В конце концов, наше Общество состоит из множества людей, и правильно выбранный каждым из нас вектор движения поможет нам сохранить чистоту и верность изначальной идее Шрилы Прабхупады.
Другая аудитория, которой адресовано это послание, – лидеры ИСККОН разных уровней – от членов ДжиБиСи и духовных учителей до ведущих нама-хатт. В попытках утвердить Движение сознания Кришны в этом мире, сделать его максимально приемлемым для как можно большего числа людей лидеры иногда вынуждены идти на компромиссы, при этом они* далеко не всегда отдают себе отчет в том, к каким последствиям это может привести. Будущее ИСККОН находится в их руках, и ответственность, которая возложена на них, очень высока.
Описывая тенденции, существующие в нашем Обществе, я далек от желания кого-то обличить. Я прекрасно знаю, какой труд стоит за каждым достижением ИСККОН, за каждым открытым храмом, каждой благотворительной программой или даже новой успешной группой общения. Эта статья – не укор и не обвинение, а приглашение к размышлению над возникающими проблемами. Если мои мысли вслух помогут хотя бы одному лидеру яснее увидеть картину и понять, что нужно делать, я буду считать, что она написана не зря. У тех же, кого она побеспокоит или возмутит, я заранее прошу прощения.
Статья делится на четыре части:
- В первой я рассказываю о том, что сознание Кришны, или бхакти-йога, отличается универсальностью и рациональностью и потому по своей природе ближе к науке, чем к религиям, зачастую основанным на слепой вере.
- Во второй – описываю, чем, собственно, плохи религии и каким образом живое духовное движение может превратиться в «организованную религию», убивающую в своих членах свободный дух поиска Истины.
- В третьей – на конкретных примерах рассматриваю, чем отличается подход к сознанию Кришны как к науке от подхода к нему как к обычной религии.
- В последней части я кратко говорю о шагах, которые можно было бы предпринять, чтобы избежать превращения Движения сознания Кришны в мирскую религиозную организацию.
Часть 1.
Сознание Кришны: наука или религия?
Сознание Кришны: наука или религия?
Один из главных секретов успеха Шрилы Прабхупады – его глубочайшая вера в научность метода сознания Кришны, в его универсальность. Основанное на трудах Рупы Госвами и Дживы Госвами, учение сознания Кришны апеллирует не к слепой вере, но к логике и разуму. Именно такое понимание природы практики сознания Кришны позволило Шриле Прабхупаде распространить науку бхакти повсюду в мире, а его последователям – принять эту практику, несмотря на непривычные внешние формы, сильно отличающиеся от распространенных на Западе представлений о духовности.
Снова и снова Шрила Прабхупада подчеркивал, что сознание Кришны – не очередная религия, которых и так много в этом мире, не традиционное вероучение, основанное на сомнительных постулатах, безоговорочная вера в которые является единственным пропуском в царство Бога, и не экзотический культ, предназначенный для бунтарей и ниспровергателей общепринятых норм. Шрила Прабхупада настаивал, что сознание Кришны, или бхакти-йога, – это прежде всего универсальная наука о Боге:
Снова и снова Шрила Прабхупада подчеркивал, что сознание Кришны – не очередная религия, которых и так много в этом мире, не традиционное вероучение, основанное на сомнительных постулатах, безоговорочная вера в которые является единственным пропуском в царство Бога, и не экзотический культ, предназначенный для бунтарей и ниспровергателей общепринятых норм. Шрила Прабхупада настаивал, что сознание Кришны, или бхакти-йога, – это прежде всего универсальная наука о Боге:
«Движение сознания Кришны ставит своей основной задачей разъяснять эту науку о душе. Мы не пытаемся вбить людям в голову какие-то догмы, а стараемся дать им возможность самим во всём разобраться — с помощью науки и философии».*
Подобных цитат можно привести великое множество, но, пожалуй, дальше всего Шрила Прабхупада зашел в комментариях к Первой песни «Шримад-Бхагаватам», где назвал это произведение «точной наукой о духовных ценностях» («a technical science of spiritual values»).*
Справедливости ради следует сказать, что многие проповедники индуизма и особенно буддизма также настаивают на научной, несектантской природе этих религий, противопоставляя их иудео-христианским религиям с их заложенной в самих священных писаниях нетерпимостью к другим религиям и проповедью своей эксклюзивности. Толерантный индуизм или отрицающий Бога буддизм, по их мнению, легче совместимы с наукой, чем религии, делающие акцент на вере и необходимости формальной принадлежности к церкви. Однако Шрила Прабхупада, говоря о научности сознания Кришны, имел в виду нечто совсем другое. Поэтому он не выделял индуизм с буддизмом* и не противопоставлял их иудео-христианским религиям. С его точки зрения, любая религия, основанная на безоговорочной вере*, несет в себе семена проблем.
Насколько это принципиальная позиция? Может быть, это просто проповеднический прием, к которому прибегал Шрила Прабхупада? В конце концов, влиятельные религии за долгую историю развития основательно скомпрометировали себя. Поэтому в современном движении «нью-эйдж» принято различать религию и духовность, осуждая первую и прославляя вторую. Может быть, Шрила Прабхупада, чьи первые последователи принадлежали к контркультуре, просто хотел дистанцироваться от религий, так же как и от всех других официальных институтов? Но нет! Шрила Прабхупада не пользовался туманной риторикой нью-эйджа и никогда не подстраивался под свою аудиторию. Более того, этому положению своей проповеди он придавал фундаментальное значение. Доказательством тому служит его формулировка первой цели ИСККОН:
«Систематически распространять в человеческом обществе духовное знание и обучать все народы методам духовной практики, чтобы восстановить нарушенное равновесие в системе ценностей общества, а также обеспечить подлинное единство всех людей и установить мир во всем мире».
Сам язык и тем более смысл этой формулировки не оставляет никаких сомнений в том, что Шрила Прабхупада видел силу научно обоснованной практики сознания Кришны в ее способности менять к лучшему жизнь людей (независимо от их идеологических установок и религиозной принадлежности). Меньше всего он хотел, чтобы созданное им Общество превратилось в очередную сеющую вражду догматическую религию.
Часть 2.
Чем плохи религии?
Чем плохи религии?
Чем все-таки плохи религии? В конце концов, во все времена именно религия удерживала людей от дурных поступков и давала надежду на лучшее будущее...
Шрила Прабхупада указывал на три изъяна, которые, как правило, сопутствуют религии в этом мире:
Шрила Прабхупада указывал на три изъяна, которые, как правило, сопутствуют религии в этом мире:
- 1Религия становится частью ложного самоотождествления человека (ложного эго) и тем самым порождает насилие против иноверцев.«Человек должен знать свои корни. Понимать, кто он. Но все видят это в категориях своего тела: “Я индус”, “Я мусульманин”, “Я христианин”, “Я индиец”, “Я американец”, “Я немец”, “Я англичанин” – и в этом причина того, что люди постоянно враждуют».*
- 2Чрезмерно подчеркивая необходимость веры, религия зачастую превращается в набор слепых догм.«То, что говорит Кришна, не пустая догма. Догматизм часто развивается на почве религии. Но здесь Кришнадас Кавирадж, автор “Чайтанья-чаритамриты” настаивает на том, чтобы мы подходили к пониманию Господа Чайтаньи и науки сознания Кришны на основе логики».*
- 3Лишенная прочного философского фундамента, религия плодит нетерпимость и фанатизм.«Лишённая философской базы религия – это сентиментализм, а порой и фанатизм. Уберите из религии философскую основу – получите фанатизм. Так что религия должна опираться на науку, на логику. Это характеристика первоклассной религии».*
Еще более резко отзывался об организованных религиях как о социальном институте Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур:
«Религия, имеющая лучшие шансы на выживание в этом проклятом мире – это религия атеизма, мимикрировавшего под теизм. Церкви всегда были оплотами и рассадниками уродливейших пороков и таких проявлений материализма, до которых никогда не опускались даже самые отъявленные грешники, не верующие в Бога. <…> Изначальный замысел, лежащий в основе всех церквей, далеко не всегда предосудителен. Однако до сих пор в истории человечества не было ни одной религии, которая продолжала бы давать духовное просвещение массам людей в течение долгого времени».*
В момент зарождения все настоящие религии приносят людям благую весть из вечного духовного мира. Основатели любой религии хотят дать максимальному числу людей этого мира возможность соприкоснуться с живительными духовными истинами – мотив достойный. Однако со временем, принимая организованные формы, духовные движения приспосабливаются к ценностям этого мира и превращаются в оплот атеизма, замаскировавшегося под духовность.
По словам Сарасвати Тхакура, даже сама идея придать живому духовному движению организационные формы губительна:
По словам Сарасвати Тхакура, даже сама идея придать живому духовному движению организационные формы губительна:
«Принятие религией конкретных организационных форм кладет конец живому духовному движению. Все великие религии этого мира подобны дамбам и плотинам, возведенным с единственной целью – удержать поток духовной энергии, который никакие материальные преграды не способны остановить».*
Механизм подмены
В этом же эссе Бхактисиддханта Сарасвати объясняет причину и механизм этой трансформации, происходящей с религией, когда она принимает организованные формы и становится массовой:
«Возникновение [больших организованных церквей] указывает на присущее людям желание эксплуатировать духовное движение, пользуясь им в своих целях. Оно же безошибочно указывает на то, что не вписывающемуся в привычные рамки руководству истинного духовного учителя пришел конец».*
Иначе говоря, причина трансформации, которой, по словам Сарасвати Тхакура, не удалось избежать ни одной массовой религии, заключается в подсознательном желании людей, становящихся последователями этих религий, приспособить их под свои нужды. Что это за нужды и каков механизм подмены?
Религии (к числу которых смело можно отнести такие идеологии, как коммунизм, социализм и прочие утопические теории*) во все времена играли огромную роль в жизни людей, поскольку они отвечают на очень важный запрос человека – запрос на спасение. Все люди понимают, что мир, в котором мы живем, полон страданий, но в глубине души каждый верит, что должна быть другая жизнь – свободная от страданий, не омраченная нищетой, несправедливостью, скудостью, убожеством, болезнями, старостью и даже смертью. Вера эта, абсурдная с материальной точки зрения, коренится в природе души, и потому всегда сопровождает человека. Религия показывает измученному человеку путь «от тьмы к свету, от невежества к знанию, от страданий к вечному блаженству»*.
Религии (к числу которых смело можно отнести такие идеологии, как коммунизм, социализм и прочие утопические теории*) во все времена играли огромную роль в жизни людей, поскольку они отвечают на очень важный запрос человека – запрос на спасение. Все люди понимают, что мир, в котором мы живем, полон страданий, но в глубине души каждый верит, что должна быть другая жизнь – свободная от страданий, не омраченная нищетой, несправедливостью, скудостью, убожеством, болезнями, старостью и даже смертью. Вера эта, абсурдная с материальной точки зрения, коренится в природе души, и потому всегда сопровождает человека. Религия показывает измученному человеку путь «от тьмы к свету, от невежества к знанию, от страданий к вечному блаженству»*.
Каждая истинная религия на момент зарождения представляет собой бурлящий, живой источник духовной энергии. Она всегда возникает в противовес господствующей культуре, поднимая бунт против норм и порядков этого мира и нарушая покой властей предержащих и обывателей. Все те, кто приобщается к ней, рискуют стать изгоями или посмешищем в глазах обычных людей. Однако искренние искатели Истины тянутся к ней, ощущая ее чистоту, подлинность и силу, потому что любой, кто соприкасается с этим источником духовной энергии, получает живой духовный опыт.
Естественное желание поделиться опытом духовного счастья, открыть доступ к нему как можно большему числу людей приводит к тому, что изначально не принадлежащее этому миру цельное божественное откровение раскладывается на «кирпичики» и превращается в наборы правил и ограничений, обряды и традиции, теологические системы, дающие ясные ответы на ключевые философские и социальные вопросы, и так далее. Этот процесс, по словам знаменитого социолога и исследователя религий Макса Вебера, называется «рутинизацией харизмы».
Сарасвати Тхакур пишет по этому поводу:
Естественное желание поделиться опытом духовного счастья, открыть доступ к нему как можно большему числу людей приводит к тому, что изначально не принадлежащее этому миру цельное божественное откровение раскладывается на «кирпичики» и превращается в наборы правил и ограничений, обряды и традиции, теологические системы, дающие ясные ответы на ключевые философские и социальные вопросы, и так далее. Этот процесс, по словам знаменитого социолога и исследователя религий Макса Вебера, называется «рутинизацией харизмы».
Сарасвати Тхакур пишет по этому поводу:
«Все эти правила безусловно необходимы, чтобы помочь обусловленным душам обуздать врожденную склонность к материалистическому образу жизни. Но формальные механические правила не достигают даже этой цели»*.
Охватывая большие массы людей, духовное учение начинает играть все более значительную роль в обществе. Но, как правило, чем дальше заходит этот процесс, тем проще и примитивнее в угоду массам верующих трактуется его изначальное послание. Обрядов и суеверий становится больше, а философской глубины – все меньше. Чтобы сохранить массовость, надо снизить планку, поэтому требования к членам религии тоже становятся все легче и необременительнее. Такова цена, которую религии приходится платить за вес и влияние в обществе. Вдобавок к этому рост любой конфессии ставит множество задач по управлению новыми землями, производствами, храмами и монастырями. Так в «организованной религии» появляется запрос на людей с деловой хваткой, «крепких хозяйственников». Далеко не все такие люди, занимающие место в церковной иерархии, отличаются духовной зрелостью. Таким образом, для кого-то духовная организация становится местом карьерного, а не духовного роста. Начиная играть важную роль в организации, такие люди незаметно смещают акценты в проповеди и влияют на общую культуру, переводя отношения с верующими на коммерческие рельсы. Не случайно, что Шрила Прабхупада, наблюдая все похожие процессы, на самой заре развития Движения, в 1972 году, начал говорить о необходимости «кипятить молоко»:
«Как с молоком. Если разбавлять его водой – чтобы обхитрить покупателей – в какой-то момент оно перестанет быть молоком. Тогда самое время начать вываривать молоко, чтобы оно стало жирным и сладким. Это лучшее, что можно сделать. Так что сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы преданные систематически обучались науке сознания Кришны. Для этого у нас есть книги, аудиозаписи. Можно устраивать обсуждения. Много других инструментов – главное, чтобы до них дошло правильное послание»*.
Очевидно, что Шрила Прабхупада не гнался за массовостью и не был готов в погоне за ней разбавлять сознание Кришны до бесконечности. Если не остановить этот процесс, для большинства последователей религия упрощается до соглашения: верующие обязуются следовать определенным предписаниям (как правило, касающихся внешней стороны их жизни), а религия дает им за это гарантии спасения. Это понятная и удобная форма отношений, и люди, желающие дешевого спасения (благо, что недостатка в них нет), с радостью на нее соглашаются. Религиозные же организации явно или неявно поддерживают в своих последователях представления о том, что только они получили от Бога эксклюзивное право «спасать» людей – все остальные этого не могут по определению. Это положение становится одним из главных догматов религии, заслоняя ее рациональные основания. Такой нехитрый маркетинговый ход дает некогда гонимой организации возможность расширять свое влияние в мире и умножать ряды.
Верующие обязуются следовать определенным правилам, религия дает им за это гарантии спасения.
Очевидно, что Шрила Прабхупада не гнался за массовостью и не был готов в погоне за ней разбавлять сознание Кришны до бесконечности. Если не остановить этот процесс, для большинства последователей религия упрощается до соглашения: верующие обязуются следовать определенным предписаниям (как правило, касающихся внешней стороны их жизни), а религия дает им за это гарантии спасения. Это понятная и удобная форма отношений, и люди, желающие дешевого спасения (благо, что недостатка в них нет), с радостью на нее соглашаются. Религиозные же организации явно или неявно поддерживают в своих последователях представления о том, что только они получили от Бога эксклюзивное право «спасать» людей – все остальные этого не могут по определению. Это положение становится одним из главных догматов религии, заслоняя ее рациональные основания. Такой нехитрый маркетинговый ход дает некогда гонимой организации возможность расширять свое влияние в мире и умножать ряды.
Лидеры религиозных организаций часто принимают рост рядов организации и усиление ее влияния как единственное мерило успеха, закрывая глаза на то, какую цену за этот успех приходится платить. Так происходит постепенное вырождение, обмирщение, выхолащивание религии. В каком-то смысле это естественный процесс – большинство его участников движимы благими побуждениями. Но в результате чистые духовные идеалы, на которых было основано движение, постепенно размываются, а ритуальные присяги на верность изначальному учителю, принесшему людям это учение, становятся ни к чему не обязывающей формальностью. Безоговорочное подчинение его воле и видению перестает быть принципом, в соответствии с которым его последователи строят свою жизнь. Именно поэтому Сарасвати Тхакур пишет: «Возникновение больших организованных церквей указывает на присущее людям желание людей эксплуатировать духовное движение, пользуясь им в своих целях. Оно же безошибочно указывает на то, что не вписывающемуся в привычные рамки руководству истинного духовного учителя пришел конец».
Сампрадая обманщиков и обманутых
Наше Движение растет. Многочисленные проповедники сеют семена веры в людях, множество новых людей со своими мотивами, целями и ценностями присоединяется к нему. И многие из них, что греха таить, приходят к нам за гарантированным спасением или хотят улучшить свое материальное благосостояние.
Поэтому сейчас самое время задуматься, что нужно делать, чтобы не превратить сознание Кришны в очередную мирскую религию:
Прежде чем мы пойдем дальше, нужно оговориться. Несомненно, в нашем Движении (как и в других религиях) есть много людей, которые искренне ищут Истину и не довольствуются расплывчатыми обещаниями загробного блаженства, есть много проповедников и наставников, которые учат своих подопечных не полагаться на магическую силу обряда, но действовать осознанно. Это, однако, не отменяет наличия противоположных тенденций и то и дело предпринимаемых попыток превратить сознание Кришны в мирскую религию или мистический ритуальный культ. Чем яснее мы поймем, как эти тенденции проявляются, тем легче нам будет им противостоять, тем меньше будет вероятность того, что мы поддадимся соблазну подменить подчас утомительные поиски Истины дешевым «спасением» и станем членами сампрадаи обманщиков и обманутых (ван̃чита-ван̃чака-сампрада̄йа*).
Поэтому сейчас самое время задуматься, что нужно делать, чтобы не превратить сознание Кришны в очередную мирскую религию:
- Как сохранить чистый революционный дух, заложенный в саму идею нашего Движения Шрилой Прабхупадой и предшествующими ачарьями?
- Как избежать упрощения и уплощения, догматизма и отягощения бессмысленными обрядами?
- Как, в конце концов, сохранить верность нашей цели, не подменив чистую любовь к Богу банальным спасением?
Прежде чем мы пойдем дальше, нужно оговориться. Несомненно, в нашем Движении (как и в других религиях) есть много людей, которые искренне ищут Истину и не довольствуются расплывчатыми обещаниями загробного блаженства, есть много проповедников и наставников, которые учат своих подопечных не полагаться на магическую силу обряда, но действовать осознанно. Это, однако, не отменяет наличия противоположных тенденций и то и дело предпринимаемых попыток превратить сознание Кришны в мирскую религию или мистический ритуальный культ. Чем яснее мы поймем, как эти тенденции проявляются, тем легче нам будет им противостоять, тем меньше будет вероятность того, что мы поддадимся соблазну подменить подчас утомительные поиски Истины дешевым «спасением» и станем членами сампрадаи обманщиков и обманутых (ван̃чита-ван̃чака-сампрада̄йа*).
Часть 3.
Два подхода, два пути, два результата
Два подхода, два пути, два результата
Для того, чтобы выявить суть проблемы, мы покажем, чем отличаются друг от друга два подхода к духовной жизни. Первый условно назовем «религиозным», второй – научным или духовным*. Самое главное, что отличает друг от друга два подхода, – это изначальная мотивация человека.
В основе «религиозного» подхода к духовной жизни всегда лежит желание освобождения, или спасения, тогда как в основе «научного» подхода лежит желание постичь Истину и приобщиться к ней.
Желание освобождения – это желание иметь или обрести что-то, чего у нас сейчас нет. Желание постичь Истину – это желание стать другим – мудрее, чище, лучше, ближе к Истине. Две этих мотивации, по сути, абсолютно разные, легко спутать друг с другом, прежде всего из-за сильных механизмов самообмана, сформировавшихся у нас за время пребывания в материальном мире.
Приобрести что-то всегда легче, чем изменить себя, и люди, неудовлетворенные своим нынешним состоянием, часто поддаются соблазну решить свои проблемы за счет обладания. Этим пользуются всевозможные торговцы и производители товаров-заместителей. Все в этом мире стремятся к счастью, любви, здоровью и к постижению Истины. Отвечая на этот запрос, они предлагают людям стать счастливыми, приобретя новый дом, новую машину или, на худой конец, новую стиральную машину. Желающим любви они предлагают всевозможные формы секса, желающим здоровья – химические лекарства или БАДы, а желающим постичь Истину – дешевые рецепты гарантированного спасения. Эта бойкая торговля поддерживает экономику в мире обманщиков и желающих быть обманутыми, но никогда не приносит людям ни счастья, ни любви, ни здоровья, ни реального духовного опыта*.
Подавляющее большинство людей в этом мире, по словам Шрилы Прабхупады, принадлежит к категории обманщиков и тех, кто хочет быть обманутым*. Из-за склонности к самообману человеку бывает трудно разобраться даже в своих мотивах, не говоря уже о чужих, поэтому должны существовать очевидные критерии, которые покажут, что же на самом деле движет человеком, присоединившимся к какой-то духовной организации, и какими мотивами руководствуются те, кто стоит во главе этой организации или побуждает человека присоединиться к ней, – проповедники, учителя, наставники и проч.
Приобрести что-то всегда легче, чем изменить себя, и люди, неудовлетворенные своим нынешним состоянием, часто поддаются соблазну решить свои проблемы за счет обладания. Этим пользуются всевозможные торговцы и производители товаров-заместителей. Все в этом мире стремятся к счастью, любви, здоровью и к постижению Истины. Отвечая на этот запрос, они предлагают людям стать счастливыми, приобретя новый дом, новую машину или, на худой конец, новую стиральную машину. Желающим любви они предлагают всевозможные формы секса, желающим здоровья – химические лекарства или БАДы, а желающим постичь Истину – дешевые рецепты гарантированного спасения. Эта бойкая торговля поддерживает экономику в мире обманщиков и желающих быть обманутыми, но никогда не приносит людям ни счастья, ни любви, ни здоровья, ни реального духовного опыта*.
Подавляющее большинство людей в этом мире, по словам Шрилы Прабхупады, принадлежит к категории обманщиков и тех, кто хочет быть обманутым*. Из-за склонности к самообману человеку бывает трудно разобраться даже в своих мотивах, не говоря уже о чужих, поэтому должны существовать очевидные критерии, которые покажут, что же на самом деле движет человеком, присоединившимся к какой-то духовной организации, и какими мотивами руководствуются те, кто стоит во главе этой организации или побуждает человека присоединиться к ней, – проповедники, учителя, наставники и проч.
Цена спасения
Первое характерное проявление «религиозного» подхода – это представления о том, что спасение можно выменять на выполнение определенных условий, главное из которых – принадлежность к церкви или кругу избранных, «узревших свет и истину».
В этом случае духовная практика превращается в более или менее механический процесс. Хотите вечной жизни? Хорошо, вот вам набор правил и ритуалов. Строго исполняйте их, и спасение вам гарантировано. Каким образом это произойдет? Не важно. Сам Бог или Его представитель обещал нам это. Когда это случится? После смерти. Сомневаетесь? Не стоит, ведь если вы приняли нашу религию, то вы уже спасены. Этот слоган – важная часть любого религиозного послания. Всякий раз, когда проповедник прямо или косвенно настаивает: «Присоединяйтесь к нам, и вы наверняка спасетесь (читай – вернетесь к Богу). В противном случае вы наверняка попадете в ад»*, – он приглашает вас не к духовному поиску, а в религиозно-мистический культ, где гарантом спасения является его основатель, получивший эксклюзивные права на торговлю этим «товаром» в материальном мире.
Кто-то может возразить: «А разве не то же самое обещает Господь Чайтанья?» Да, Господь Чайтанья пришел в этот мир, чтобы освободить обусловленные души, но Он раздавал не спасение, а любовь, и делал это, открывая людям научно обоснованный путь, ведущий к Богу. Дар Господа Чайтаньи – это рагануга-садхана, а не волшебная таблетка, дарующая освобождение всем, кто уверовал в Него*. Если рассматривать духовный путь как сознательный поиск Истины (а не автоматический конвейер спасения или магический ритуал), то окажется, что на этом пути нам никто гарантий успеха дать не может.
В этом случае духовная практика превращается в более или менее механический процесс. Хотите вечной жизни? Хорошо, вот вам набор правил и ритуалов. Строго исполняйте их, и спасение вам гарантировано. Каким образом это произойдет? Не важно. Сам Бог или Его представитель обещал нам это. Когда это случится? После смерти. Сомневаетесь? Не стоит, ведь если вы приняли нашу религию, то вы уже спасены. Этот слоган – важная часть любого религиозного послания. Всякий раз, когда проповедник прямо или косвенно настаивает: «Присоединяйтесь к нам, и вы наверняка спасетесь (читай – вернетесь к Богу). В противном случае вы наверняка попадете в ад»*, – он приглашает вас не к духовному поиску, а в религиозно-мистический культ, где гарантом спасения является его основатель, получивший эксклюзивные права на торговлю этим «товаром» в материальном мире.
Кто-то может возразить: «А разве не то же самое обещает Господь Чайтанья?» Да, Господь Чайтанья пришел в этот мир, чтобы освободить обусловленные души, но Он раздавал не спасение, а любовь, и делал это, открывая людям научно обоснованный путь, ведущий к Богу. Дар Господа Чайтаньи – это рагануга-садхана, а не волшебная таблетка, дарующая освобождение всем, кто уверовал в Него*. Если рассматривать духовный путь как сознательный поиск Истины (а не автоматический конвейер спасения или магический ритуал), то окажется, что на этом пути нам никто гарантий успеха дать не может.
Иногда в наших храмах можно услышать другой вариант таких гарантий: мол, Шрила Прабхупада обещал всем членам созданного им Движения возвращение к Богу за одну жизнь. Да, в нескольких письмах Шрила Прабхупада давал такие обещания, например: «Займи себя преданным служением круглосуточно. Так ты будешь счастлива и в конце жизни вернешься домой, к Богу».* При этом в подавляющем большинстве писем, а также в книгах он добавляет к этим условиям еще несколько, уже не таких формальных. Например: «Для этого достаточно быть таким же серьезным и искренним, как Махараджа Дхрува. Тогда нам не составит труда вернуться домой, к Богу, в конце этой жизни».*
Но есть в книгах Шрилы Прабхупады и другие утверждения, о которых почему-то забывают: «Вернуться к Богу за одну жизнь невозможно, но живое существо, которое получило человеческое тело, по крайней мере может понять, в чем заключается смысл жизни, и начать действовать в сознании Кришны».*
Но есть в книгах Шрилы Прабхупады и другие утверждения, о которых почему-то забывают: «Вернуться к Богу за одну жизнь невозможно, но живое существо, которое получило человеческое тело, по крайней мере может понять, в чем заключается смысл жизни, и начать действовать в сознании Кришны».*
На самом деле единственная гарантия, которую мы можем получить в Движении, основанном Шрилой Прабхупадой, – это то, что нам будут помогать искать Истину. Но найдем мы ее или нет, во многом зависит от нас, от нашего желания и нашей искренности, от того, насколько мы готовы меняться, насколько понимаем механизм преображения, которое должно произойти с нами, а также от милости Бога, которую невозможно обеспечить механическим следованием правилам или формальной принадлежностью к религиозной организации.
Обременительная свобода и комфортная неволя
Следующее важное отличие «религиозного» подхода от духовного – это мера ответственности, возлагаемой на человека, и проистекающая из этого степень свободы, которую он ощущает.
Тот, кто приходит в ИСККОН, как в религиозную организацию, торгующую спасением, думает, что ему достаточно сделать правильный выбор один раз – и больше ему не нужно ни о чем беспокоиться. Проповедники и учителя часто поддерживают его в этом, делая чрезмерный акцент на покорности и послушании. При этом под покорностью иногда подразумеваются отключение разума и слепое следование авторитетам. Подобные заверения поощряют стремление человека снять с себя обременительную ответственность за внутренние перемены и переложить ее на плечи наставника, лидера ятры или духовного учителя. Да, такой человек понимает, что лишится значительной части своей свободы, но кто не захочет отказаться от обременительной свободы и необходимости постоянно делать выбор в обмен на твердые гарантии возвращения к Богу и комфорт блаженной безответственности?
Духовная жизнь такого человека сводится к исполнению обязательных повинностей: раннего подъема, обязательных молитв, джапы, чтения книг и регулярного оброка в виде пожертвований (церковная десятина, членские взносы и так далее). Включив эту механическую программу, человек превращается в автомат. Он может радоваться при мысли о том, что с каждым совершённым обрядом становится ближе к Богу, но сердце не обманешь – оно будет тосковать и томиться в темнице обязательных правил и рутинных повинностей.
Если же мы проповедуем духовную жизнь как непрестанный поиск Истины, то будем объяснять людям, что ответственность за их духовную жизнь лежит на них: ее невозможно переложить на чужие плечи. Мы будем подчеркивать, что всегда, при всех обстоятельствах душа остается свободной, то есть способной делать выбор, и выбор этот она делает не один раз, когда «предается», а по многу раз на дню. Мы будем также объяснять людям, что предание не подразумевает отключения разума. Разум, буддхи, – это инструмент, с помощью которого мы предаемся (как следует из самого определения предания – шаранагати*) и который позволяет нам поменяться. Люди, понявшие это, не будут пассивно ожидать манны небесной и сжав зубы отбывать духовную повинность. Наоборот, они будут стремиться делать как можно больше в духовной практике. Вместо того чтобы ограничиваться духовным минимумом из «магических» шестнадцати кругов, они будут по максимуму посвящать ей время и ресурсы, и делать это свободно и радостно.
Тот, кто приходит в ИСККОН, как в религиозную организацию, торгующую спасением, думает, что ему достаточно сделать правильный выбор один раз – и больше ему не нужно ни о чем беспокоиться. Проповедники и учителя часто поддерживают его в этом, делая чрезмерный акцент на покорности и послушании. При этом под покорностью иногда подразумеваются отключение разума и слепое следование авторитетам. Подобные заверения поощряют стремление человека снять с себя обременительную ответственность за внутренние перемены и переложить ее на плечи наставника, лидера ятры или духовного учителя. Да, такой человек понимает, что лишится значительной части своей свободы, но кто не захочет отказаться от обременительной свободы и необходимости постоянно делать выбор в обмен на твердые гарантии возвращения к Богу и комфорт блаженной безответственности?
Духовная жизнь такого человека сводится к исполнению обязательных повинностей: раннего подъема, обязательных молитв, джапы, чтения книг и регулярного оброка в виде пожертвований (церковная десятина, членские взносы и так далее). Включив эту механическую программу, человек превращается в автомат. Он может радоваться при мысли о том, что с каждым совершённым обрядом становится ближе к Богу, но сердце не обманешь – оно будет тосковать и томиться в темнице обязательных правил и рутинных повинностей.
Если же мы проповедуем духовную жизнь как непрестанный поиск Истины, то будем объяснять людям, что ответственность за их духовную жизнь лежит на них: ее невозможно переложить на чужие плечи. Мы будем подчеркивать, что всегда, при всех обстоятельствах душа остается свободной, то есть способной делать выбор, и выбор этот она делает не один раз, когда «предается», а по многу раз на дню. Мы будем также объяснять людям, что предание не подразумевает отключения разума. Разум, буддхи, – это инструмент, с помощью которого мы предаемся (как следует из самого определения предания – шаранагати*) и который позволяет нам поменяться. Люди, понявшие это, не будут пассивно ожидать манны небесной и сжав зубы отбывать духовную повинность. Наоборот, они будут стремиться делать как можно больше в духовной практике. Вместо того чтобы ограничиваться духовным минимумом из «магических» шестнадцати кругов, они будут по максимуму посвящать ей время и ресурсы, и делать это свободно и радостно.
И то, и другое внешне выглядит как предание себя, но два этих вида предания отличаются друг от друга так же, как слепая покорность – от осознанного послушания. Вся «Бхагавад-гита» лежит между двумя заверениями Арджуны в его готовности следовать Кришне: «Наставляй меня, я – твой ученик и предавшаяся тебе душа» (Бг 2.7) и «Все мои сомнения рассеялись, я буду делать все, что ты мне скажешь» (Бг 18.73). Два этих утверждения, так похожих по смыслу, как день и ночь отличаются друг от друга по внутреннему содержанию.
В обоих случаях люди будут приносить в организацию свои ресурсы – силу, разум, таланты, деньги и проч., но в первом случае пожертвованные труд и ресурсы будут просто отчуждаться от них «во имя Бога». Благо, которое такие «предавшиеся души» от этого получат, измеряется либо близостью к «представителю Бога на Земле», либо грамотами, мемориальными досками и прочими побрякушками, греющими тщеславие. Тогда как во втором случае принесенные в жертву труд и ресурсы будут претворяться в подлинный духовный опыт, помогая таким людям стать смиреннее и чище и сформировать новую, духовную идентичность слуги Бога.
Мне очень хотелось бы верить, что в ИСККОН никто не обманывает доверчивых людей и не пользуется их начальным энтузиазмом в своих интересах. Разумеется, это происходит в других организациях. Это где-то там на новичков накидываются, чтобы поскорее использовать их ресурсы, где-то там не платят за тяжелую работу, используют рекомендации на инициацию как средство давления или выставляют огромные счета за «эксклюзивные» консультации. У нас ведь такого быть не может! Увы, опыт подсказывает мне, что может. Тем важнее говорить об этом снова и снова, защищая потенциальных обманщиков от соблазна и потенциальных обманутых – от жестокого разочарования.
Религиозная организация, гарантирующая людям освобождение, неминуемо превращается либо в культ, где лидеры тщательно оберегают свое привилегированное положение и ревниво относятся к потенциальным конкурентам из числа подопечных, либо – в непомерно раздутый бюрократический аппарат, переваривающий «предание» своих членов, преобразуя его в материальную собственность организации. В обоих случаях чистый и искренний дух проповеди постепенно утрачивается и заменяется борьбой за «место под солнцем».
Мне очень хотелось бы верить, что в ИСККОН никто не обманывает доверчивых людей и не пользуется их начальным энтузиазмом в своих интересах. Разумеется, это происходит в других организациях. Это где-то там на новичков накидываются, чтобы поскорее использовать их ресурсы, где-то там не платят за тяжелую работу, используют рекомендации на инициацию как средство давления или выставляют огромные счета за «эксклюзивные» консультации. У нас ведь такого быть не может! Увы, опыт подсказывает мне, что может. Тем важнее говорить об этом снова и снова, защищая потенциальных обманщиков от соблазна и потенциальных обманутых – от жестокого разочарования.
Религиозная организация, гарантирующая людям освобождение, неминуемо превращается либо в культ, где лидеры тщательно оберегают свое привилегированное положение и ревниво относятся к потенциальным конкурентам из числа подопечных, либо – в непомерно раздутый бюрократический аппарат, переваривающий «предание» своих членов, преобразуя его в материальную собственность организации. В обоих случаях чистый и искренний дух проповеди постепенно утрачивается и заменяется борьбой за «место под солнцем».
Потребители и творцы
Лидеры организаций или групп внутри ИСККОН, где культивируются подобные настроения, часто жалуются на пассивность своих членов, не понимая, что эта пассивность – результат их проповеди «безоговорочного предания». В таких организациях всегда преобладают патерналистские модели отношений – отношений «всесильного родителя и несмышленого ребенка». При этом лидер заинтересован не в духовном развитии своего подопечного, не в его становлении как самостоятельной духовной личности, а в том, чтобы он всегда оставался зависимым от него. Такие модели отношений иногда выдают за «заботу о преданных». Эта так называемая забота, а точнее, мелочная опека лишает человека инициативы, делает его пассивным потребителем «духовных благ». Человек, попавший под такую опеку, остается инфантильным, духовно незрелым, болезненно зависящим от чужого мнения, неспособным самостоятельно мыслить и формировать свое отношение к тому, что происходит с ним и в мире вокруг него.
Наоборот, настроение духовного поиска, которым можно заразиться от настоящего проповедника, пробуждает инициативу в подопечных, а лидеры поощряют их инициативу и направляют ее в продуктивное русло. Создаваемые ими системы духовной заботы направлены прежде всего на формирование самостоятельной зрелой личности подопечного. Подопечные таких лидеров не ждут, когда кто-то позаботится о них, и не сетуют на недостаток заботы, но с благодарностью принимают все, что им уже дано, стараясь применить это в своей жизни и беря на себя ответственность за заботу о младших. Духовный путь для них – не пассивное потребление, но радостный творческий процесс самореализации. Именно от них исходит инициатива в отношениях со старшими, но она принимает форму не докучливых жалоб на недостаток личного общения, а в просьбу: «Скажите мне, пожалуйста, чем я могу служить вам?»*.
В религиозных организациях патерналистского типа инициатива в лучшем случае не поощряется, а в худшем – на корню подавляется. В то же время настоящая духовная организация делает из своих членов не винтики, обеспечивающие функционирование громоздкого бюрократического аппарата, но людей, «независимо мыслящих и компетентных во всех областях знания и деятельности».*
Наоборот, настроение духовного поиска, которым можно заразиться от настоящего проповедника, пробуждает инициативу в подопечных, а лидеры поощряют их инициативу и направляют ее в продуктивное русло. Создаваемые ими системы духовной заботы направлены прежде всего на формирование самостоятельной зрелой личности подопечного. Подопечные таких лидеров не ждут, когда кто-то позаботится о них, и не сетуют на недостаток заботы, но с благодарностью принимают все, что им уже дано, стараясь применить это в своей жизни и беря на себя ответственность за заботу о младших. Духовный путь для них – не пассивное потребление, но радостный творческий процесс самореализации. Именно от них исходит инициатива в отношениях со старшими, но она принимает форму не докучливых жалоб на недостаток личного общения, а в просьбу: «Скажите мне, пожалуйста, чем я могу служить вам?»*.
В религиозных организациях патерналистского типа инициатива в лучшем случае не поощряется, а в худшем – на корню подавляется. В то же время настоящая духовная организация делает из своих членов не винтики, обеспечивающие функционирование громоздкого бюрократического аппарата, но людей, «независимо мыслящих и компетентных во всех областях знания и деятельности».*
Духовная практика – самоцель или средство достижения цели?
В этой связи становится понятным, почему «религиозная» проповедь ориентирована, прежде всего, на результат, а духовная придает гораздо большее значение процессу.
Перспектива вечного блаженства на Вайкунтхе (вайшнавской версии рая) и страх адских мук – главные стимулы, движущие «религиозным» человеком. При этом райские наслаждения и адские муки – это обстоятельства, в которых оказываются, соответственно, праведники и грешники, а духовные упражнения, неважные сами по себе, – это всего лишь временные средства, позволяющие попасть в рай и избежать ада. Нужда в них отпадает в тот момент, когда результат достигнут. Всякий раз, когда акцент в проповеди делается на желаемый результат, проповедник нажимает на кармические кнопки в нашем уме, пробуждая рефлекс спасения. Подсознательный посыл такой проповеди: «Да, духовная практика утомительна и скучна, но потерпите немного, как-то дотяните до смерти, и она принесет вам награду в виде вечного блаженства или как минимум обеспечит вам хорошее рождение в следующей жизни».
В противоположность этому, духовная наука объясняет, что ожидаемый результат духовной практики – не внешние обстоятельства, но внутреннее состояние души, исполненное блаженства, и приближение к этому состоянию на каждом шагу само по себе приносит удовлетворение – чем дальше, тем больше: прати-падам̇ пӯрн̣а̄мр̣та̄сва̄данам̇*. Сам путь духовного развития и есть цель, неотличная от средства*. Духовная жизнь – это постоянное восхождение по лестнице, ведущей к Богу, и каждая ступень на этой лестнице важна как сама по себе, так и потому, что позволяет нам взойти на следующую ступень. Когда человек осознает это на практике, он перестает стремиться к освобождению, но молит дать ему возможность заниматься преданным служением из жизни в жизнь. Об этом говорит в «Шри Шикшаштаке» Шри Чайтанья Махапрабху: ка̄майе мама джанмани джанманӣш́варе бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи*.
В отличие от «религиозной» проповеди, уповающей на чудесное преображение в момент смерти, духовная проповедь сосредоточивает человека на пути и помогает ему осознанно двигаться по нему, преодолевать препятствия и черпать радость в самом этом движении. И на духовном пути, и в религиозной практике человека могут охватить сомнения или настичь отчаяние, но эмоции эти отличаются друг от друга так же, как стенания невольника – от плача любящего, разлученного с возлюбленной. И «религиозные», и духовные люди ищут общения со святыми, достигшими совершенства, но если для первых это способ получить благословения и побыстрее освободиться от страданий, то для вторых – возможность получить важные наставления, которые помогут им идти по духовному пути.
Перспектива вечного блаженства на Вайкунтхе (вайшнавской версии рая) и страх адских мук – главные стимулы, движущие «религиозным» человеком. При этом райские наслаждения и адские муки – это обстоятельства, в которых оказываются, соответственно, праведники и грешники, а духовные упражнения, неважные сами по себе, – это всего лишь временные средства, позволяющие попасть в рай и избежать ада. Нужда в них отпадает в тот момент, когда результат достигнут. Всякий раз, когда акцент в проповеди делается на желаемый результат, проповедник нажимает на кармические кнопки в нашем уме, пробуждая рефлекс спасения. Подсознательный посыл такой проповеди: «Да, духовная практика утомительна и скучна, но потерпите немного, как-то дотяните до смерти, и она принесет вам награду в виде вечного блаженства или как минимум обеспечит вам хорошее рождение в следующей жизни».
В противоположность этому, духовная наука объясняет, что ожидаемый результат духовной практики – не внешние обстоятельства, но внутреннее состояние души, исполненное блаженства, и приближение к этому состоянию на каждом шагу само по себе приносит удовлетворение – чем дальше, тем больше: прати-падам̇ пӯрн̣а̄мр̣та̄сва̄данам̇*. Сам путь духовного развития и есть цель, неотличная от средства*. Духовная жизнь – это постоянное восхождение по лестнице, ведущей к Богу, и каждая ступень на этой лестнице важна как сама по себе, так и потому, что позволяет нам взойти на следующую ступень. Когда человек осознает это на практике, он перестает стремиться к освобождению, но молит дать ему возможность заниматься преданным служением из жизни в жизнь. Об этом говорит в «Шри Шикшаштаке» Шри Чайтанья Махапрабху: ка̄майе мама джанмани джанманӣш́варе бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи*.
В отличие от «религиозной» проповеди, уповающей на чудесное преображение в момент смерти, духовная проповедь сосредоточивает человека на пути и помогает ему осознанно двигаться по нему, преодолевать препятствия и черпать радость в самом этом движении. И на духовном пути, и в религиозной практике человека могут охватить сомнения или настичь отчаяние, но эмоции эти отличаются друг от друга так же, как стенания невольника – от плача любящего, разлученного с возлюбленной. И «религиозные», и духовные люди ищут общения со святыми, достигшими совершенства, но если для первых это способ получить благословения и побыстрее освободиться от страданий, то для вторых – возможность получить важные наставления, которые помогут им идти по духовному пути.
Идолы и идеалы
Раз уж мы заговорили о святых, стоит сказать еще несколько слов о том, как видят их «религиозные» люди и искатели Бога. И те, и другие нуждаются в святых, потому что они служат подтверждением истинности избранного пути, живым олицетворением духовного совершенства. Однако «религиозные» люди чувствуют себя гораздо комфортнее с канонизированными святыми прошлого. Современники, претендующие на святость, очень часто не вмещаются в привычные рамки, разрушают стереотипы и потому внушают таким людям чувство тревоги из-за своей непредсказуемости и чрезмерных требований, которые они как бы предъявляют людям самим фактом своего существования. Бескомпромиссность и цельность пугают «религиозных» людей, мешая им оставаться в зоне комфорта. Канонизированные же святые прошлого в глазах таких людей являются безупречными во всех отношениях нитья-сиддхами, вечно освобожденными душами. Представления о вечной святости таких людей очень важны, потому что избавляют их последователей от необходимости стремиться стать такими же, ведь это заведомо недостижимо. Живой человек превращается последователями в сусальную икону, ожившее мурти, а все рассказы о его жизни сводятся либо к описаниям совершенных им чудес, либо к намекам на врожденность его святости, которую тот проявлял чуть ли не в утробе матери. Это одна крайность, проявляющаяся в неспособности видеть и ценить преданность современников и попытках положить конец сампрадае, объявив Шрилу Прабхупаду последним ачарьей.
Есть и другая, еще более опасная крайность – это обожествление или слепая идеализация духовных учителей, лидеров и даже наставников. Человеку, психологически зависимому, пассивно ожидающему спасения, очень важно иметь рядом с собой безупречного святого, мистика, который является гарантом обещанного спасения. Любые проявления несовершенства, настоящие или мнимые, или даже просто человеческие черты в духовном учителе воспринимаются такими последователями очень болезненно*. Неуверенный в себе, эмоционально незрелый человек остро нуждается в защите. Эта потребность заставляет его идеализировать старших, то есть приписывать им все мыслимые положительные качества и закрывать глаза на любые проявления недостатков*. Так человек отсоединяется от реальности, а придуманный идеал становится идолом или кумиром, которому он слепо поклоняется.
Очень часто, чтобы доказать себе и всем остальным величие своего гуру или наставника, они начинают оскорблять других вайшнавов, занимающих в обществе сходное положение, давая выход накопившемуся раздражению. Претензии других людей на идеальность до глубины души возмущают их, потому что подрывают их веру в исключительность своего гуру и, соответственно, свою избранность.
Зачастую у таких людей нет реальных отношений с духовным учителем, они предпочитают держаться от него на расстоянии, чтобы он неосторожными словами и поступками не разрушил их веру в себя. Поэтому большую часть времени такой кумир пребывает в виде улыбающейся фотографии на алтаре. В реальной жизни ему позволяется проявлять себя только как профессиональному чудотворцу.
У учителя или проповедника, прямо или косвенно поощряющего последователей идеализировать себя, делать из себя безупречного уттама-адхикари, тоже, как правило, нет отношений с учениками. При этом он часто думает, что таким образом он заботится о духовном прогрессе своих учеников и подопечных. Подстраиваясь под их ожидания, такой учитель боится проявлять человеческую природу и изолируется от всего мира в «башне из слоновой кости». Ему приходится тратить огромное количество энергии на то, чтобы поддерживать им же созданный имидж великого святого. Одновременно с этим он чувствует, что живет не своей жизнью и теряет себя. Все это – дорогая цена, которую приходится платить за статус «чистого преданного».
Рано или поздно идеализации приходит конец, иллюзии рушатся, и ошибки или слабости кумира (на которые последователи раньше закрывали глаза) становятся явными и дают им повод называть его обманщиком. Так те, кто только что рьяно поклонялся своему идолу, начинают не менее рьяно втаптывать его в грязь, те, кто идеализировал, – демонизировать. Все эти явления – признаки непонимания научных принципов, лежащих в основе сознания Кришны.
Для духовных людей святые служат прежде всего источником вдохновения и ролевой моделью, поэтому искатели Бога ищут и находят проявления святости в своих современниках. Преданность, решимость, доброта, скромность и смирение – достаточные свидетельства святости в их глазах. Особенности человеческой природы гуру или проповедника не заслоняют их настоящих достоинств. При этом у искренних искателей Истины нет психологической потребности закрывать глаза на человеческие качества гуру, так же как нет у них потребности оскорблять других учителей, считая их соперниками своего гуру. В подтверждениях в виде совершенных чудес они тоже не нуждаются. Святой для них – это не фотография на алтаре, а тот, у кого они учатся жить и служить, чей пример стоит у них перед глазами и помогает им правильно вести себя во всех ситуациях жизни. Что касается святых прошлого, то им совсем не важно, были ли они нитья-сиддхами, проявляли ли святость в утробе матери и могли ли читать мысли. Наоборот, для них те части жизнеописаний святых людей, в которых они сражались с соблазнами, преодолевали препятствия и проходили уроки, гораздо важнее рассказов об их мистических совершенствах*.
Научившись видеть внутреннюю мотивацию садху, а не внешние проявления обусловленной природы, искатели Истины вместе с этим обретают способность видеть возвышенные качества в окружающих и учиться у них, независимо от их формального статуса, тогда как «религиозные» люди, преданные-неофиты с их черно-белым видением приписывают все духовные качества исключительно святым, а в окружающих видят главным образом недостатки.
Есть и другая, еще более опасная крайность – это обожествление или слепая идеализация духовных учителей, лидеров и даже наставников. Человеку, психологически зависимому, пассивно ожидающему спасения, очень важно иметь рядом с собой безупречного святого, мистика, который является гарантом обещанного спасения. Любые проявления несовершенства, настоящие или мнимые, или даже просто человеческие черты в духовном учителе воспринимаются такими последователями очень болезненно*. Неуверенный в себе, эмоционально незрелый человек остро нуждается в защите. Эта потребность заставляет его идеализировать старших, то есть приписывать им все мыслимые положительные качества и закрывать глаза на любые проявления недостатков*. Так человек отсоединяется от реальности, а придуманный идеал становится идолом или кумиром, которому он слепо поклоняется.
Очень часто, чтобы доказать себе и всем остальным величие своего гуру или наставника, они начинают оскорблять других вайшнавов, занимающих в обществе сходное положение, давая выход накопившемуся раздражению. Претензии других людей на идеальность до глубины души возмущают их, потому что подрывают их веру в исключительность своего гуру и, соответственно, свою избранность.
Зачастую у таких людей нет реальных отношений с духовным учителем, они предпочитают держаться от него на расстоянии, чтобы он неосторожными словами и поступками не разрушил их веру в себя. Поэтому большую часть времени такой кумир пребывает в виде улыбающейся фотографии на алтаре. В реальной жизни ему позволяется проявлять себя только как профессиональному чудотворцу.
У учителя или проповедника, прямо или косвенно поощряющего последователей идеализировать себя, делать из себя безупречного уттама-адхикари, тоже, как правило, нет отношений с учениками. При этом он часто думает, что таким образом он заботится о духовном прогрессе своих учеников и подопечных. Подстраиваясь под их ожидания, такой учитель боится проявлять человеческую природу и изолируется от всего мира в «башне из слоновой кости». Ему приходится тратить огромное количество энергии на то, чтобы поддерживать им же созданный имидж великого святого. Одновременно с этим он чувствует, что живет не своей жизнью и теряет себя. Все это – дорогая цена, которую приходится платить за статус «чистого преданного».
Рано или поздно идеализации приходит конец, иллюзии рушатся, и ошибки или слабости кумира (на которые последователи раньше закрывали глаза) становятся явными и дают им повод называть его обманщиком. Так те, кто только что рьяно поклонялся своему идолу, начинают не менее рьяно втаптывать его в грязь, те, кто идеализировал, – демонизировать. Все эти явления – признаки непонимания научных принципов, лежащих в основе сознания Кришны.
Для духовных людей святые служат прежде всего источником вдохновения и ролевой моделью, поэтому искатели Бога ищут и находят проявления святости в своих современниках. Преданность, решимость, доброта, скромность и смирение – достаточные свидетельства святости в их глазах. Особенности человеческой природы гуру или проповедника не заслоняют их настоящих достоинств. При этом у искренних искателей Истины нет психологической потребности закрывать глаза на человеческие качества гуру, так же как нет у них потребности оскорблять других учителей, считая их соперниками своего гуру. В подтверждениях в виде совершенных чудес они тоже не нуждаются. Святой для них – это не фотография на алтаре, а тот, у кого они учатся жить и служить, чей пример стоит у них перед глазами и помогает им правильно вести себя во всех ситуациях жизни. Что касается святых прошлого, то им совсем не важно, были ли они нитья-сиддхами, проявляли ли святость в утробе матери и могли ли читать мысли. Наоборот, для них те части жизнеописаний святых людей, в которых они сражались с соблазнами, преодолевали препятствия и проходили уроки, гораздо важнее рассказов об их мистических совершенствах*.
Научившись видеть внутреннюю мотивацию садху, а не внешние проявления обусловленной природы, искатели Истины вместе с этим обретают способность видеть возвышенные качества в окружающих и учиться у них, независимо от их формального статуса, тогда как «религиозные» люди, преданные-неофиты с их черно-белым видением приписывают все духовные качества исключительно святым, а в окружающих видят главным образом недостатки.
Доказательство от чуда
Теперь пришло время сказать несколько слов об отношении к чудесам. И «религиозные» люди, и искатели Истины ждут чуда, потому что «чудо есть Бог». Чудо – это нарушение естественных законов, стало быть – доказательство существования того, кто стоит выше этих законов и может вмешаться в естественный ход вещей. «Религиозные» люди зависят от чуда, потому что вся их вера зиждется на чудесах*. Чудо становится для них главным мерилом истины и очень важным аргументом в проповеди, поэтому, когда чудес не происходит, их придумывают, иногда чтобы вдохновить последователей, иногда чтобы оправдать свой выбор пути. Следующим же поколениям эти выдумки передаются уже как канонические истории. Так философия постепенно заменяется рождественскими сказками, а вера в священные писания – набором суеверий.
Чудо – не доказательство существования Бога, а свидетельство Его любви.
Искатель же Истины надеется на чудо, но не зависит от него. Чудо для таких людей – не доказательство правильности его веры, а скорее свидетельство неравнодушия Бога, Его вмешательства в дела людей или Его готовности откликнуться на искренние молитвы преданного. Если для «религиозного» человека чудо – это доказательство бытия Бога, то для искателя Истины – это доказательство Его любви. Иначе говоря, чудо для него, так же как и сам Бог – это эстетическая категория. Отсутствие чудес в его жизни не демотивирует его, а наоборот, усиливает в нем желание улучшить свою практику, сделать ее более чистой и бескорыстной*. Когда же чудеса происходят с ним, он будет с большой долей вероятности хранить их в секрете, а не выставлять напоказ: любовь не терпит посторонних взглядов и чурается публичности. Доказательством существования Бога для таких людей является действенность пути, способность духовной практики преображать сердца людей – именно это Шрила Прабхупада считал своим главным чудом*.
Теперь пришло время сказать несколько слов об отношении к чудесам. И «религиозные» люди, и искатели Истины ждут чуда, потому что «чудо есть Бог». Чудо – это нарушение естественных законов, стало быть – доказательство существования того, кто стоит выше этих законов и может вмешаться в естественный ход вещей. «Религиозные» люди зависят от чуда, потому что вся их вера зиждется на чудесах*. Чудо становится для них главным мерилом истины и очень важным аргументом в проповеди, поэтому, когда чудес не происходит, их придумывают, иногда чтобы вдохновить последователей, иногда чтобы оправдать свой выбор пути. Следующим же поколениям эти выдумки передаются уже как канонические истории. Так философия постепенно заменяется рождественскими сказками, а вера в священные писания – набором суеверий.
Искатель же Истины надеется на чудо, но не зависит от него. Чудо для таких людей – не доказательство правильности его веры, а скорее свидетельство неравнодушия Бога, Его вмешательства в дела людей или Его готовности откликнуться на искренние молитвы преданного. Если для «религиозного» человека чудо – это доказательство бытия Бога, то для искателя Истины – это доказательство Его любви. Иначе говоря, чудо для него, так же как и сам Бог – это эстетическая категория. Отсутствие чудес в его жизни не демотивирует его, а наоборот, усиливает в нем желание улучшить свою практику, сделать ее более чистой и бескорыстной*. Когда же чудеса происходят с ним, он будет с большой долей вероятности хранить их в секрете, а не выставлять напоказ: любовь не терпит посторонних взглядов и чурается публичности. Доказательством существования Бога для таких людей является действенность пути, способность духовной практики преображать сердца людей – именно это Шрила Прабхупада считал своим главным чудом*.
Искатель же Истины надеется на чудо, но не зависит от него. Чудо для таких людей – не доказательство правильности его веры, а скорее свидетельство неравнодушия Бога, Его вмешательства в дела людей или Его готовности откликнуться на искренние молитвы преданного. Если для «религиозного» человека чудо – это доказательство бытия Бога, то для искателя Истины – это доказательство Его любви. Иначе говоря, чудо для него, так же как и сам Бог – это эстетическая категория. Отсутствие чудес в его жизни не демотивирует его, а наоборот, усиливает в нем желание улучшить свою практику, сделать ее более чистой и бескорыстной*. Когда же чудеса происходят с ним, он будет с большой долей вероятности хранить их в секрете, а не выставлять напоказ: любовь не терпит посторонних взглядов и чурается публичности. Доказательством существования Бога для таких людей является действенность пути, способность духовной практики преображать сердца людей – именно это Шрила Прабхупада считал своим главным чудом*.
Как превратить искателей в послушных последователей
«Религиозные» люди обычно рассматривают писания как сборники рассказов о чудотворцах и совершенных ими чудесах, призванные укрепить их шаткую веру в избранный путь. Все остальное в священных писаниях: философские рассуждения, космологические модели, описания тонких законов природы, молитвы и т. д. – их утомляет. Обычно они довольствуются поверхностным знакомством с писанием. Своих убеждений у них нет, они знают о шастрах понаслышке, и их очень легко сбить с толку. Им скучно самим погружаться в философию и часто сложно понять, какое отношение вся эта философия имеет к их жизни.
«Изучение писаний не для всех, только брахманы должны это делать»;
«Это все гьяна, а мы занимаемся бхакти-йогой. Нам необязательно знать все эти премудрости»;
«Шастры сушат сердце».
Этого ли хотел Шрила Прабхупада? На заре развития Движения он писал:
«Изучение писаний не для всех, только брахманы должны это делать»;
«Это все гьяна, а мы занимаемся бхакти-йогой. Нам необязательно знать все эти премудрости»;
«Шастры сушат сердце».
Этого ли хотел Шрила Прабхупада? На заре развития Движения он писал:
«Полагаю, ты уже слышал о том, что в январе 1970 мы проводим экзамен по этой книге для всех моих учеников. Те кто сдадут, получат степень «бхакти-шастри». Этим экзаменом я хочу донести до своих учеников, что они должны тщательно изучать философию сознания Кришны. Ведь мир нуждается в большом числе проповедников, которые будут нести это знание во стороны света»*
Он хотел, чтобы его ученики знали священные писания назубок, чтобы их вера и понимание передавались всем, с кем они разговаривают, и чтобы все они унаследовали «семейный» титул Бхактиведанты:
«Я желаю, чтобы все мои духовные сыновья и дочери унаследовали наш титул – Бхактиведанта. Так этот трансцендентный диплом будет переходить из поколения в поколение».*
Увы, часто в наших храмах объяснения глубокой и рациональной философии, лежащей в основе священных писаний, заменяются развлекательными историями, рассказами о мнимых чудесах, или – того хуже – психологическими тренингами или продвижением актуальной политической повестки. Вместо побуждающих к размышлениям утверждений ачарьев с высоких трибун часто звучат догмы и заученные истины. Под предлогом верности Шриле Прабхупаде книги предшествующих ачарьев объявляются чуть ли не запрещенными, а человек, цитирующий их, рефлекторно внушает подозрение. Мнение Шрилы Прабхупады по этому поводу как-то упускается из вида. Например:
«... Поэтому тем, кто серьезно относится к изучению “Шримад-Бхагаватам”, необходимо пользоваться комментариями, составленными такими великими ачарьями, как Джива Госвами и Вишванатха Чакраварти. Тем, кто не является преданным Господа, комментарии и пояснения этих ачарьев могут показаться казуистикой, но ученики, принадлежащие к цепи ученической преемственности, осознают всю важность и уместность комментариев великих ачарьев».*
В результате у слушателей таких проповедей возникает фрагментарное или очень поверхностное понимание священных писаний, которое они принимают за истину. Неудобные вопросы, на которые проповедники не могут ответить, воспринимаются ими как попытка подорвать их авторитет, поэтому тех, кто задает подобные вопросы, часто публично высмеивают, чтобы другим неповадно было, и иногда лекции превращаются в места публичной порки для нарушителей спокойствия.
Такие проповедники обращаются не столько к разуму человека, сколько к его эмоциям, причем зачастую самым базовым – эмоциям страха и вины, выбирая соответствующие цитаты из шастр. Люди, неспособные самостоятельно мыслить и боящиеся на йоту отклониться от буквы писания, – удобная паства. С такими последователями можно достичь большего в этом мире, поэтому проповедь превращается в конвейер, с которого сходят роботоподобные новообращенные.
Такие проповедники обращаются не столько к разуму человека, сколько к его эмоциям, причем зачастую самым базовым – эмоциям страха и вины, выбирая соответствующие цитаты из шастр. Люди, неспособные самостоятельно мыслить и боящиеся на йоту отклониться от буквы писания, – удобная паства. С такими последователями можно достичь большего в этом мире, поэтому проповедь превращается в конвейер, с которого сходят роботоподобные новообращенные.
Книги ачарьев прошлого помогают лучше оценить то, о чем пишет Шрила Прабхупада, а слова Шрилы Прабхупады – позволяют глубже понять учение ачарьев.
Для искателя Истины священные писания – это прежде всего источник целостного, логически обоснованного мировоззрения, та призма, глядя через которую на мир, они смогут лучше понять самого себя, избавиться от иллюзий и заблуждений, правильно действовать и в конце концов увидеть Бога. Они ценят букву священного писания, но превыше нее ставят его дух. Изучение священных писаний в их понимании – действенный метод преображения себя. Поэтому такие люди получают вдохновение, по многу раз изучая каждую историю, погружаясь в комментарии, обнаруживая их перекличку между собой и внутренние связи. Книги ачарьев прошлого помогают им лучше оценить то, о чем пишет Шрила Прабхупада, а слова Шрилы Прабхупады – позволяют глубже понять учение ачарьев и увидеть его с новой стороны. В результате у них формируется целостное, связное духовное мировоззрение, которое меняет к лучшему их жизнь и которое они, не прибегая к штампам и клише, могут донести до других людей.
Проповедники и учителя духовной науки подчеркивают важность систематического (а не хаотического) изучения писаний* и поощряют нестандартные вопросы (при том, разумеется, условии, что эти вопросы продиктованы желанием понять и услышать ответ, а не просто бросить вызов)*.
Проповедники и учителя духовной науки подчеркивают важность систематического (а не хаотического) изучения писаний* и поощряют нестандартные вопросы (при том, разумеется, условии, что эти вопросы продиктованы желанием понять и услышать ответ, а не просто бросить вызов)*.
Детектор лжи
Различия между «религиозным» и духовным, или научным, подходами к практике можно увидеть во множестве аспектов духовной жизни. Мы кратко разберем несколько самых очевидных, чтобы помочь искренним практикующим лучше понять свою мотивацию, а проповедникам – какие семена веры они сажают в сердцах своих слушателей.
Отношение к правилам и ограничениям
С одной стороны, «религиозные» люди часто демонстрируют фанатизм в следовании правилам, загромождают свою жизнь бессмысленными правилами, придавая каждой мелочи статус божественного волеизъявления, а потом – стараются обойти эти ограничения, придумывая всевозможные оправдания и уловки*.
Один из примеров – Пандава-нирджала-экадаши. Шрила Прабхупада не выделял особо именно этот день, для него все экадаши были одинаково важны. Но в какой-то момент преданные прочитали о том, как Вьясадев разрешил ненасытному Бхиме соблюдать пост только в этот экадаши, и решили, что их это тоже касается. И теперь у нас в обществе культ Пандава-экадаши, а в остальные дни – «экадашные пиры», на которых из списка «запрещенных» продуктов вычеркивается все, что возможно.
Люди, серьезно относящиеся к духовной практике, прежде всего пытаются понять смысл правил, отличая принципы от деталей*. Сами или с помощью старших они трезво оценивают свои возможности и берут посильный стандарт, постоянно работая над тем, чтобы его повышать.
Отношение к равным
Для «религиозного» человека равные – это соперники, которые мешают ему стать ближе к тому, от кого зависит их спасение, – к гуру, великому проповеднику, ну или хотя бы к их приближенным. Поэтому стратегия отношений с равными простая – надо отталкивать локтями всех, стараться выслужиться и получить место поближе к источнику благодати.
Человек, идущий духовным путем, смотрит на равных как на друзей, соратников, тех, чье упорство вдохновляет и помогает идти вперед*. Их не пугают возможные разногласия и отсутствие простых формул, способных привести все к общему знаменателю. Наоборот, различия во мнениях с равными воспринимаются ими не как досадная помеха, а как источник творческой энергии и возможность сделать общее дело лучше.
Человек, идущий духовным путем, смотрит на равных как на друзей, соратников, тех, чье упорство вдохновляет и помогает идти вперед*. Их не пугают возможные разногласия и отсутствие простых формул, способных привести все к общему знаменателю. Наоборот, различия во мнениях с равными воспринимаются ими не как досадная помеха, а как источник творческой энергии и возможность сделать общее дело лучше.
Отношение к науке
«Религиозные» люди обычно боятся науки, ведь она может разрушить их наспех склеенную из религиозных догм модель мира. При этом огульное осуждение науки и ученых парадоксальным образом сочетается у них с попытками доказать верность каких-то положений своей религии с помощью «последних научных достижений». Так, они очень радуются заголовкам типа «Математик доказал существование Бога»* или роликам, где воздействие звука «Ом» на пластину с песком формирует на ней очертания Шри Янтры*.
Шрила Прабхупада же никогда не боялся вступать в дискуссии с учеными и не прибегал к сомнительным научным аргументам, чтобы доказать свою правоту. Он настаивал на том, что мы должны научиться разговаривать с учеными на их языке*, не заискивая перед ними и стараясь доносить до них философию сознания Кришны с ее логической стройностью, полнотой и глубиной. Это одна из целей основанного им Института Бхактиведанты.
Шрила Прабхупада же никогда не боялся вступать в дискуссии с учеными и не прибегал к сомнительным научным аргументам, чтобы доказать свою правоту. Он настаивал на том, что мы должны научиться разговаривать с учеными на их языке*, не заискивая перед ними и стараясь доносить до них философию сознания Кришны с ее логической стройностью, полнотой и глубиной. Это одна из целей основанного им Института Бхактиведанты.
Отношение к другим религиям
В большинстве религий спасение объявляется привилегией, доступной только их последователям – избранным и посвященным. Все же, кто не угадал с выбором, неминуемо отправятся в ад. К сожалению, проповедники-вайшнавы тоже иногда пытаются доказать превосходство сознания Кришны, клеймя другие религии. Людей с «религиозным» сознанием такая апологетика очень воодушевляет, но людей ищущих – скорее отталкивает. Поскольку искатели Истины сосредоточены на принципах и законах духовной науки, они легко могут увидеть, как эти универсальные законы проявляются в учениях, на которых основаны другие религии, и отделить их от исторических компромиссов, внесенных в религиозное учение в процессе попыток утвердить его в материальном мире.
Пожалуй, лучше всего об этом сказал Бхактивинода Тхакур:
Пожалуй, лучше всего об этом сказал Бхактивинода Тхакур:
«Если нам доведется наблюдать, как Богу поклоняются приверженцы другого вероисповедания, нам следует думать: “Здесь проводят богослужение моему Господу, но не так, как это делаю я. Я не совсем понимаю, как они это делают, ведь меня обучали этому иначе. Тем не менее, наблюдая за ними, я могу углубить уважение к тому методу поклонения, которому следую сам. Бог один для всех. Я почтительно склоняюсь перед представленным здесь образом Господа. Да усилит Он мою любовь к тому Его образу, который ближе мне и привычнее”. Те, кто не следует этому, а критикует другие системы поклонения, проявляет ненависть, насилие и зависть, – ничтожны и глупы. Чем больше они предаются бесполезным ссорам, тем больше они предают саму суть своей религии».*
Отношение к отступникам
Как правило, «религиозные» люди, особенно лидеры, резко отрицательно относятся к тем, кто посмел покинуть «единственно верный путь к Богу». Такое отношение выдает внутреннюю неуверенность адептов: чтобы защитить не очень крепкую веру – свою и своих последователей – в избранность и непреложную верность их пути, такие лидеры должны очернять отступников и предавать их анафеме. Подробные разборы всех ошибок и недостатков «предателей» часто делаются публично в назидание оставшимся.
В противоположность этому люди, искренние ищущие Истину, всегда относятся к ушедшим с состраданием. Они стараются понять, в чем проблема и как можно им помочь вернуться к духовной практике или хотя бы сохранить доброе отношение к Богу, которое позволит им когда-то продолжить свой духовный путь*.
В противоположность этому люди, искренние ищущие Истину, всегда относятся к ушедшим с состраданием. Они стараются понять, в чем проблема и как можно им помочь вернуться к духовной практике или хотя бы сохранить доброе отношение к Богу, которое позволит им когда-то продолжить свой духовный путь*.
Отношение к формальному посвящению
Приходя в «религиозную» организацию или в духовное движение, человек начинает формировать свою новую, «духовную» личность, однако происходит этот процесс по-разному. «Религиозная» организация помогает своим членам сформировать новую идентичность за счет акцента на внешних признаках принадлежности – одежде, новом имени, дипломах, наградах, привилегиях, титулах и званиях и так далее. Всем этим вещам в подобной организации придается особое символическое значение, и люди очень стремятся к внешним знакам отличия, считая их показателями духовного прогресса. Поэтому в ИСККОН дикше – первому и второму посвящению – придается чуть ли не магическое значение. Очень часто при этом люди забывают, что без шикши дикша мертва. Строго говоря, дикша это всего лишь официальное признание готовности человека начать процесс обучения у гуру, то есть получать его шикшу. Погоня за внешним признанием часто заслоняет от человека необходимость внутреннего преображения, которое происходит только благодаря живым отношениям с духовным учителем, основанным на следовании его наставлениям.
Шрила Прабхупада получил посвящение только через 11 лет после встречи с духовным учителем, Бхактисиддхантой Сарасвати. С рождения будучи преданным, получил посвящение в 37 лет. А в ИСККОН бхакта, который через три года после знакомства с вайшнавами еще не инициирован, считается «отстающим». Нам нужно формальное подтверждение своей избранности и своей защищенности. К тому же «духовный учитель в момент инициации берет на себя все грехи ученика», как тут не торопиться?
Одержимость магией дикши, фактическое обожествление дикша-гуру и, как следствие, неизбежное принижение роли шикши, породившая целое параллельное Движение, – огромная проблема, которая до сих пор остается нерешенной.
Шрила Прабхупада получил посвящение только через 11 лет после встречи с духовным учителем, Бхактисиддхантой Сарасвати. С рождения будучи преданным, получил посвящение в 37 лет. А в ИСККОН бхакта, который через три года после знакомства с вайшнавами еще не инициирован, считается «отстающим». Нам нужно формальное подтверждение своей избранности и своей защищенности. К тому же «духовный учитель в момент инициации берет на себя все грехи ученика», как тут не торопиться?
Одержимость магией дикши, фактическое обожествление дикша-гуру и, как следствие, неизбежное принижение роли шикши, породившая целое параллельное Движение, – огромная проблема, которая до сих пор остается нерешенной.
Параллельные системы ценностей
Все эти явления формируют две системы ценностей, существующие в «религиозной» организации параллельно, – декларируемую и реальную. В декларируемой системе превыше всего ценятся качества и настоящий духовный опыт человека, проявляющийся в степени его отрешенности от материи и способности к состраданию. В реальной системе ценностей – статус верующего и деньги. В декларируемой системе ценностей мерилом духовного развития считается интенсивность духовной практики и знание священных писаний, в реальной – место в церковной иерархии и близость к «духовным лидерам». Часто с высоких трибун мы превозносим смирение, но награждаем и поощряем тех, кто приносит в организацию больше денег или лучше хозяйствует. Примеры можно приводить без конца. Так «организованная религия» плодит лицемерие.
На этом можно остановиться. Сказанного достаточно, чтобы увидеть картину и понять, как легко, руководствуясь благими мотивами или замаскированными под бхакти желаниями освобождения и успеха, превратить ИСККОН в очередную традиционную религию.
Мы же пойдем дальше и посмотрим на практические следствия «религиозного» мировоззрения.
На этом можно остановиться. Сказанного достаточно, чтобы увидеть картину и понять, как легко, руководствуясь благими мотивами или замаскированными под бхакти желаниями освобождения и успеха, превратить ИСККОН в очередную традиционную религию.
Мы же пойдем дальше и посмотрим на практические следствия «религиозного» мировоззрения.
Часть 4.
Печальные последствия и как их можно было бы избежать
Печальные последствия и как их можно было бы избежать
Пожалуй, самое важное следствие «религиозного» подхода – это почти неизбежное выгорание. Человек приходит в наше Общество и принимает предложенные правила игры. Рано или поздно у него появляется некое положение в обществе, он читает мантру, соблюдает принципы, служит и так далее. Шею его украшает брахманский шнур и три ряда кантхи-малы, а в сердце живет надежда на обещанное чудо: все плохие качества должны автоматически уйти, а духовная практика – сама собой стать легкой и приятной. Годы идут, все возможные инициации получены, все курсы пройдены, все истории услышаны, но вкус так и не пришел.
Увы, человек с «религиозной» концепцией не пытается разобраться в причинах этого, убеждая себя, что «надо еще немного потерпеть, и чудо случится». Иногда эта позиция подкрепляется цитатой Шрилы Прабхупады «Просто продолжай!». Продолжать что? Механически выполнять ритуалы? Подавляя зевоту, читать книги положенные 20 минут в день? Повторять мантру по дороге на работу? Половину воскресной программы проводить в кафе или болтая с друзьями? А что не так? Я же делаю все, что нужно, – повторяю 16 кругов, книги читаю, в храм прихожу. Только вот силы на это все равно приходится тратить, а результат «почему-то» не приходит.
Одновременно с этим в сердце такого человека копятся негативные эмоции. Вайшнавы, которые на заре его духовной жизни по контрасту казались ему святыми, начинают выглядеть, как сборище лицемеров и несостоявшихся людей. Все чаще он совершает оскорбления, желая переложить ответственность за свою неудачу на окружающих, ИСККОН или духовного учителя. В конце концов пружина, которую закручивали несколько лет, распрямляется, высвобождая долго копившиеся неудовлетворенность, гнев, претензии. Благо, что поводов для этого всегда много: некрасивое поведение кого-то из старших преданных, ссоры между вайшнавами, сомнения в философии, посеянные каким-то разочаровавшимся преданным, инсинуации блогеров в социальных сетях, домыслы антикультистов и т.д. и т.п.
Не претендующий на полноту статистический анализ показывает, что средняя ожидаемая продолжительность практики сознания Кришны равняется семи годам. Это время, достаточное для того, чтобы новизна и ощущение чуда ушли, а разочарования и оскорбления накопились и полностью лишили человека вкуса к духовной практике.
Человек уходит из Общества сознания Кришны, часто с обидой – за то, что его обманули. Хотя, по сути, такой человек сам обманывал себя, отключив разум и поступившись своей свободой. Разумеется, часть ответственности за его уход лежит и на нас – нельзя этого не признать. Тем больнее! Не исключено, что лидеры ИСККОН, которым он доверился, помогали или не мешали ему обманываться, неправильно расставляя акценты в проповеди и не обучая его научным основам сознания Кришны.
Вариантов такого отхода может быть великое множество. Иногда, утратив веру в обещания, которые ему давали в ИСККОН, человек начинает искать другие варианты дешевого спасения. Он может уйти на Радха-кунду, где ему посулят уже в этой жизни «наслаждение расой и экстатическое служение в сиддха-сварупе». Или просто «перестать быть фанатиком» и «гармонизировать» свою жизнь с помощью «прикладных ведических технологий успеха». Или перейти в православие – «там меньше требований и больше гарантий». Или, приникнув к родовым корням, погрузиться в «русские Веды» и шаманские практики. Или начать употреблять психоделики, а то и просто обучиться на психолога и зарабатывать на жизнь, проводя расстановки по Хеллингеру или регрессии. На каждом из этих путей его ожидают реальные чудеса, куда более вкусные, чем «зеленый виноград» сознания Кришны.
Увы, человек с «религиозной» концепцией не пытается разобраться в причинах этого, убеждая себя, что «надо еще немного потерпеть, и чудо случится». Иногда эта позиция подкрепляется цитатой Шрилы Прабхупады «Просто продолжай!». Продолжать что? Механически выполнять ритуалы? Подавляя зевоту, читать книги положенные 20 минут в день? Повторять мантру по дороге на работу? Половину воскресной программы проводить в кафе или болтая с друзьями? А что не так? Я же делаю все, что нужно, – повторяю 16 кругов, книги читаю, в храм прихожу. Только вот силы на это все равно приходится тратить, а результат «почему-то» не приходит.
Одновременно с этим в сердце такого человека копятся негативные эмоции. Вайшнавы, которые на заре его духовной жизни по контрасту казались ему святыми, начинают выглядеть, как сборище лицемеров и несостоявшихся людей. Все чаще он совершает оскорбления, желая переложить ответственность за свою неудачу на окружающих, ИСККОН или духовного учителя. В конце концов пружина, которую закручивали несколько лет, распрямляется, высвобождая долго копившиеся неудовлетворенность, гнев, претензии. Благо, что поводов для этого всегда много: некрасивое поведение кого-то из старших преданных, ссоры между вайшнавами, сомнения в философии, посеянные каким-то разочаровавшимся преданным, инсинуации блогеров в социальных сетях, домыслы антикультистов и т.д. и т.п.
Не претендующий на полноту статистический анализ показывает, что средняя ожидаемая продолжительность практики сознания Кришны равняется семи годам. Это время, достаточное для того, чтобы новизна и ощущение чуда ушли, а разочарования и оскорбления накопились и полностью лишили человека вкуса к духовной практике.
Человек уходит из Общества сознания Кришны, часто с обидой – за то, что его обманули. Хотя, по сути, такой человек сам обманывал себя, отключив разум и поступившись своей свободой. Разумеется, часть ответственности за его уход лежит и на нас – нельзя этого не признать. Тем больнее! Не исключено, что лидеры ИСККОН, которым он доверился, помогали или не мешали ему обманываться, неправильно расставляя акценты в проповеди и не обучая его научным основам сознания Кришны.
Вариантов такого отхода может быть великое множество. Иногда, утратив веру в обещания, которые ему давали в ИСККОН, человек начинает искать другие варианты дешевого спасения. Он может уйти на Радха-кунду, где ему посулят уже в этой жизни «наслаждение расой и экстатическое служение в сиддха-сварупе». Или просто «перестать быть фанатиком» и «гармонизировать» свою жизнь с помощью «прикладных ведических технологий успеха». Или перейти в православие – «там меньше требований и больше гарантий». Или, приникнув к родовым корням, погрузиться в «русские Веды» и шаманские практики. Или начать употреблять психоделики, а то и просто обучиться на психолога и зарабатывать на жизнь, проводя расстановки по Хеллингеру или регрессии. На каждом из этих путей его ожидают реальные чудеса, куда более вкусные, чем «зеленый виноград» сознания Кришны.
Однако самый распространенный и, возможно, самый печальный сценарий – это когда вайшнавы, не видя результатов своей практики, тихо разочаровываются в самой возможности достичь успеха. При этом понимая, что духовная составляющая жизни важна, такой человек оставляет в своей жизни необременительные ритуалы и следует им механически, без особой надежды, вернее, с надеждой на чудо, которое должно произойти в момент смерти.
В лучшем случае он исправно посещает воскресные программы или приходит в храм на большие праздники, привычно отзывается на пароль «Харе Кришна», с тоской смотрит на пышущих энтузиазмом новичков и с трудом удерживается от соблазна охладить их пыл, вылив на них ушат своего цинизма. Когда число таких людей – пассивных верующих с потухшим взглядом – накапливается, революционное, живое и чистое сознание Кришны превращается в очередную скучную религию, претендующую на исключительность, но мало чего реально меняющую в жизни людей*. Так подтверждается печальное утверждение Бхактисиддханты Сарасвати: «Изначальный замысел, лежащий в основе всех церквей, далеко не всегда предосудителен. Однако до сих пор в истории человечества не было ни одной религии, которая продолжала бы давать духовное просвещение массам людей в течение долгого времени».
Один из способов защитить ИСККОН от вырождения заключается в том, чтобы свести к минимуму роль бессознательных факторов в практике сознания Кришны, постоянно подчеркивая ее рациональные основания, то есть утвердить сознание Кришны как духовную науку, основанную на универсальных принципах. При этом, конечно же, важно «не выплеснуть с водой ребенка», то есть не свести практику сознания Кришны к сухому интеллектуальному философствованию – оставить в нем место для чуда живого опыта соприкосновения с трансцендентной реальностью.
В лучшем случае он исправно посещает воскресные программы или приходит в храм на большие праздники, привычно отзывается на пароль «Харе Кришна», с тоской смотрит на пышущих энтузиазмом новичков и с трудом удерживается от соблазна охладить их пыл, вылив на них ушат своего цинизма. Когда число таких людей – пассивных верующих с потухшим взглядом – накапливается, революционное, живое и чистое сознание Кришны превращается в очередную скучную религию, претендующую на исключительность, но мало чего реально меняющую в жизни людей*. Так подтверждается печальное утверждение Бхактисиддханты Сарасвати: «Изначальный замысел, лежащий в основе всех церквей, далеко не всегда предосудителен. Однако до сих пор в истории человечества не было ни одной религии, которая продолжала бы давать духовное просвещение массам людей в течение долгого времени».
Один из способов защитить ИСККОН от вырождения заключается в том, чтобы свести к минимуму роль бессознательных факторов в практике сознания Кришны, постоянно подчеркивая ее рациональные основания, то есть утвердить сознание Кришны как духовную науку, основанную на универсальных принципах. При этом, конечно же, важно «не выплеснуть с водой ребенка», то есть не свести практику сознания Кришны к сухому интеллектуальному философствованию – оставить в нем место для чуда живого опыта соприкосновения с трансцендентной реальностью.
Мы начали свой рассказ со слов о том, что Шрила Прабхупада основал ИСККОН, чтобы «систематически распространять в человеческом обществе духовное знание и обучать все народы методам духовной практики». Он хотел, чтобы ИСККОН помог людям «впервые за всю историю человечества обрести подлинный мир и объединить противоборствующие силы в современном мире»*. Вместо этого официальный ИСККОН при всех его впечатляющих достижениях пятьдесят с небольшим лет спустя после основания вынужден сражаться сразу с несколькими группировками, претендующими на то, что их движение и есть настоящий ИСККОН, да и в самом ИСККОН достаточно противоборствующих фракций и течений, не говоря уже о ставших традиционными трениях с Гаудия-Матхом и другими ответвлениями Гаудия-вайшнава-сампрадаи. Поглощенные этими распрями, мы почти забыли о том, что первая задача ИСККОН – «примирить противоборствующие силы в современном мире».
Почему Шрила Прабхупада надеялся, что ИСККОН не постигнет участь всех других религий с их бесконечным расколами, дрязгами и борьбой за превосходство в этом мире? По крайней мере, один из возможных ответов на этот вопрос: потому что Шрила Прабхупада основал ИСККОН на универсальных принципах духовной науки. В этом он строго следовал Рупе Госвами, изложившему принципы духовной науки в «Бхакти-расамрита-синдху». Логически и философски безупречный анализ, проделанный Рупой Госвами, превратил бхакти, преданность и любовь к Богу, из туманного теологического понятия в строгую научную категорию. Он позволяет увидеть и отличить друг от друга разные формы и проявления бхакти и указывает путь к достижению самой чистой и возвышенной ее разновидности – шуддха-бхакти, или уттама-бхакти.
По сути дела, все описанные отклонения, превращающие ИСККОН в рядовую религию, можно отнести либо к категории осквернения кармой – мирской, корыстной религиозностью, либо к категории осквернения гьяной – религиозностью, продиктованной желанием освобождения.
Массовые религии за долгую историю своего развития в этом мире вобрали в себя множество разных идей, верований и предрассудков. Обслуживая потребности своих членов, они шли на компромиссы и уступки. Не вооруженные ясным категориальным аппаратом, позволяющим отличить чистую бхакти от всевозможных гибридных форм, они канонизировали представления, практики и обычаи, уводящие их от идеала чистой бхакти. Мы можем пойти по тому же пути и позволить «массам эксплуатировать духовное движение в своих интересах», тем самым положив конец абсолютному и безусловному руководству истинного духовного учителя. Или можем попытаться позитивно утвердить универсальные принципы духовной науки в законах, традициях, культуре и организационных формах ИСККОН.
Почему Шрила Прабхупада надеялся, что ИСККОН не постигнет участь всех других религий с их бесконечным расколами, дрязгами и борьбой за превосходство в этом мире? По крайней мере, один из возможных ответов на этот вопрос: потому что Шрила Прабхупада основал ИСККОН на универсальных принципах духовной науки. В этом он строго следовал Рупе Госвами, изложившему принципы духовной науки в «Бхакти-расамрита-синдху». Логически и философски безупречный анализ, проделанный Рупой Госвами, превратил бхакти, преданность и любовь к Богу, из туманного теологического понятия в строгую научную категорию. Он позволяет увидеть и отличить друг от друга разные формы и проявления бхакти и указывает путь к достижению самой чистой и возвышенной ее разновидности – шуддха-бхакти, или уттама-бхакти.
По сути дела, все описанные отклонения, превращающие ИСККОН в рядовую религию, можно отнести либо к категории осквернения кармой – мирской, корыстной религиозностью, либо к категории осквернения гьяной – религиозностью, продиктованной желанием освобождения.
Массовые религии за долгую историю своего развития в этом мире вобрали в себя множество разных идей, верований и предрассудков. Обслуживая потребности своих членов, они шли на компромиссы и уступки. Не вооруженные ясным категориальным аппаратом, позволяющим отличить чистую бхакти от всевозможных гибридных форм, они канонизировали представления, практики и обычаи, уводящие их от идеала чистой бхакти. Мы можем пойти по тому же пути и позволить «массам эксплуатировать духовное движение в своих интересах», тем самым положив конец абсолютному и безусловному руководству истинного духовного учителя. Или можем попытаться позитивно утвердить универсальные принципы духовной науки в законах, традициях, культуре и организационных формах ИСККОН.
Универсальные принципы по определению справедливы везде и всегда. Они не предмет оспаривания или произвольных толкований, а предмет уважительного обсуждения среди людей, знающих шастры и, самое главное, живущих по ним. Поэтому, если мы поставим задачу сформировать наше Движение на этих вечных принципах, первое, что мы сделаем, – это утвердим культуру прозрачности для всех лидеров и культуру уважительного диалога с четкими правилами его ведения, как это было во времена Господа Чайтаньи.
- Тогда, вместо того чтобы за спиной обвинять каких-то лидеров в лицемерии и отклонениях, мы попытаемся создать действенные механизмы обратной связи для лидеров, которые позволят им со стороны посмотреть и, если нужно, подкорректировать свое поведение.
- Вместо того чтобы запрещать обсуждение острых философских тем и вынуждать думающих людей искать собеседников «на стороне», мы сможем организовать открытое, уважительное и плодотворное обсуждение этих тем внутри ИСККОН.
- Вместо того чтобы воевать с Гаудия-Матхом и другими вайшнавами за последователей, мы будем вкладывать энергию, средства и время в миссионерские программы, проповедующие несектантские, научно обоснованные универсальные принципы бхакти, которые приведут в наши ряды множество искренних искателей Истины. Мы будем воспитывать проповедников и организовывать систему заботы о духовном развитии приходящих к нам людей. Мы будем финансировать Институт Бхактиведанты – последнее детище Шрилы Прабхупады, которое он считал одним из своих самых важных проповеднических начинаний.
- Вместо того чтобы сокрушаться о том, что ашрамы брахмачари пустуют и в храмах некому служить, мы перестанем смотреть на брахмачари и брахмачарини как на дешевую рабочую силу и создадим увлекательные образовательные программы для них, новые возможности для их проповеди и социальные гарантии для тех из них, кто захочет поменять ашрам.
- Вместо того чтобы создавать громоздкие управленческие структуры с утомительной отчетностью и мелочным контролем, будем работать над формированием культуры уполномочивания преданных на всех уровнях и механизмов, обеспечивающих преемственность, и, кто знает, может быть, когда-нибудь создадим настоящий вайшнавский университет для лидеров всех уровней, о котором говорил Шрила Прабхупада.
- Вместо того чтобы настаивать на минимальном соблюдении садханы, данной Шрилой Прабхупадой (16 кругов и 4 регулирующих принципа), будем создавать и популяризировать программы, дающие реальный опыт погружения в святое имя и меняющие сердце. Мы будем работать над созданием систематических учебных программ и методик, позволяющих применять философию «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» в жизни и полностью трансформировать видение мира, а не над формальными академическими курсами, создающими иллюзию знания, но ничего не меняющими в реальной жизни.
- Вместо того чтобы ломать копья о том, могут ли женщины играть роль гуру и возможны ли вообще гуру после Шрилы Прабхупады, мы определим четкие и ясные, основанные на шастрах критерии, какими качествами должны обладать гуру и какие категории гуру возможны в нашем Обществе. Мы создадим учебные и менторские программы, воспитывающие будущих духовных учителей, и будем приглашать в них людей, а не с подозрением коситься на каждого нового кандидата на роль гуру.
- Вместо того чтобы запрещать вайшнавам принимать учеников до момента ухода духовного учителя, считая, что именно его уход волшебным образом наделяет вайшнава квалификацией, мы дадим возможность гуру вести своих учеников, делясь с ними опытом и помогая им выполнять служение духовного учителя.
- Вместо того чтобы до хрипоты спорить о том, как утвердить варнашраму, сформулируем базовые принципы, лежащие в основе этой социальной структуры, совместимые с практикой бхакти (а не замещающие ее), и начнем последовательно внедрять их в культуру ИСККОН. Мы создадим образовательные программы для колледжа варнашрамы, как хотел Шрила Прабхупада, и постараемся запустить их во всех храмах ИСККОН, превратив их из воскресных церквей в центры образования.
Много всего другого можно и нужно будет сделать, если мы захотим утвердить бхакти как науку о Боге и душе, а ИСККОН – как международную образовательную организацию, призванную учить людей этой науке.
Заключение
Я прекрасно понимаю, что написать все это гораздо легче, чем осуществить в жизни, и все то, что так красиво выглядит на бумаге, будет выглядеть совсем иначе в реальности. Это не отменяет необходимости попытаться увидеть идеальную картину и работать над ее реализацией.
Я отдаю себе отчет в том, что множество искренних лидеров упорно трудится над тем, чтобы улучшить ИСККОН и превратить его в Общество, которое хотел видеть Шрила Прабхупада. Я надеюсь, что мои слова не будут восприняты как попытка оскорбить кого-то или принизить чье-то служение.
Оглядываясь назад, я понимаю, что сам повинен в каких-то из ошибок, описанных здесь – по молодости или от избытка энтузиазма проповедовать сознание Кришны всем и каждому.
В этой статье я поделился своими размышлениями над тем, что переживает сейчас наше Общество. Уверен, что многие другие вайшнавы тоже размышляют над этим и делают все от них зависящее, чтобы избежать печального сценария, изложенного Бхактисиддхантой Сарасвати, и исполнить желание Шрилы Прабхупады “восстановить нарушенное равновесие в системе ценностей общества, а также обеспечить подлинное единство всех людей и установить мир во всем мире».
Я отдаю себе отчет в том, что множество искренних лидеров упорно трудится над тем, чтобы улучшить ИСККОН и превратить его в Общество, которое хотел видеть Шрила Прабхупада. Я надеюсь, что мои слова не будут восприняты как попытка оскорбить кого-то или принизить чье-то служение.
Оглядываясь назад, я понимаю, что сам повинен в каких-то из ошибок, описанных здесь – по молодости или от избытка энтузиазма проповедовать сознание Кришны всем и каждому.
В этой статье я поделился своими размышлениями над тем, что переживает сейчас наше Общество. Уверен, что многие другие вайшнавы тоже размышляют над этим и делают все от них зависящее, чтобы избежать печального сценария, изложенного Бхактисиддхантой Сарасвати, и исполнить желание Шрилы Прабхупады “восстановить нарушенное равновесие в системе ценностей общества, а также обеспечить подлинное единство всех людей и установить мир во всем мире».
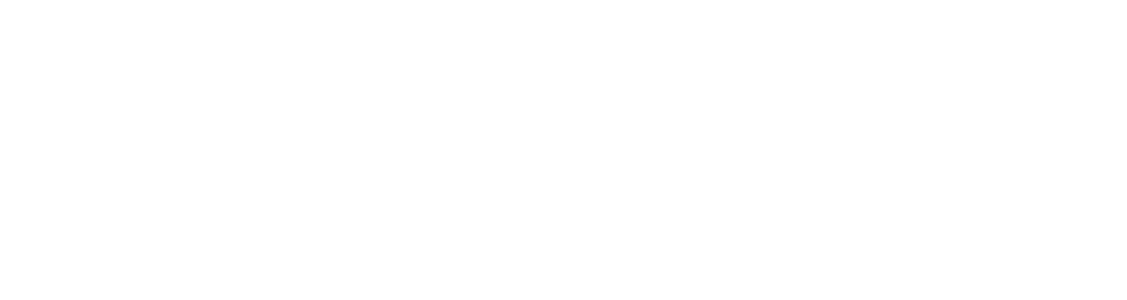
В данном случае я имею в виду прежде всего самого себя. Уверен, что многие лидеры стараются предусмотреть отдаленные последствия, однако из-за естественных ограничений человеческой природы это не всегда возможно.
«Путешествие вглубь себя», глава 1.
«Шримад-Бхагаватам», 1.5.11, комментарий.
«Один парень сунул микрофон в лицо Прабхупаде и спросил: “Чем ваша группа отличается от других буддистов?” Прабхупада был невозмутим. Он посмотрел на этого репортера и, ни секунды не раздумывая, сказал: “Мы не имеем ничего общего ни с индуизмом, ни с буддизмом. Мы учим истине, и если вы искренни, вы примете ее». Равиндра Сварупа дас, «Воспоминания о Шриле Прабхупаде».
Шрила Прабхупада: «Это потому, что проповедники религии вульгарно догматичны. У них нет ясного представления о Боге; они способны лишь на громкие речи. Когда человек сам чего-то не понимает, он не может заставить других это понять. Но в сознании Кришны нет места таким пустышкам. Сознание Кришны совершенно ясно и понятно. Это то Движение, которого так ждал господин Юнг. Каждый здравомыслящий человек должен сотрудничать с этим Движением и освободить человеческое общество от грубой тьмы невежества». «За пределами иллюзии и сомнений», глава 15.
«Все, что говорит Кришна или Его представитель – это не догмы. Те же, кто не является представителем Кришны, обречены говорить одни догмы. Такие догмы есть в каждой религии. Но в религии Бхагаваты, бхагавата-дхарме, таким догмам нет места». Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 6.01.1971.
«Наставления Кришны – не бессмысленная догма. Религия, действительно, часто порождает догматизм, но автор «Шри Чайтанья-чаритамриты», Шрила Кришнадас Кавираджа, призывает нас осмыслить учение Шри Чайтаньи и философию сознания Кришны, опираясь на логику. Не нужно ничему следовать слепо, руководствуясь одними эмоциями». «Еще один шанс», глава 14.
«Все, что говорит Кришна или Его представитель – это не догмы. Те же, кто не является представителем Кришны, обречены говорить одни догмы. Такие догмы есть в каждой религии. Но в религии Бхагаваты, бхагавата-дхарме, таким догмам нет места». Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 6.01.1971.
«Наставления Кришны – не бессмысленная догма. Религия, действительно, часто порождает догматизм, но автор «Шри Чайтанья-чаритамриты», Шрила Кришнадас Кавираджа, призывает нас осмыслить учение Шри Чайтаньи и философию сознания Кришны, опираясь на логику. Не нужно ничему следовать слепо, руководствуясь одними эмоциями». «Еще один шанс», глава 14.
«В поисках просветления», глава 2.
«Еще один шанс», глава 14.
«Бхагавад-гита как она есть», 3.3, комментарий.
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Путана».
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Путана».
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Путана».
Шрила Прабхупада часто ставил эти идеологические системы на один уровень с мирскими религиями. Например: «Секрет в следующем. Люди пытаются принести мир и процветание в общество с помощью стольких мер – филантропизма, альтруизма, национализма, социализма. И так называемую религию они тоже пытаются привнести. Но всё это для того, чтобы в человеческом обществе были мир и процветание». Лекция в Лос-Анджелесе, 7.06.1972.
«Брихад-араньяка-упанишад», 1.3.38.
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Путана».
Письмо Хамсадуте, 22.06.1972.
Шрила Прабхупада. Лекция по «Бхагавад-гите», 14.07.1973.
Важно помнить, что мы вкладываем в эти термины (за неимением более точных) несколько другой смысл, чем принято. Можно было бы прибегнуть к более привычной классификации преданных на каништха- и мадхьяма-адхикари. Действительно, «религиозный» подход – это по большей части удел каништха-адхикари. Мадхьяма-адхикари по определению более серьезно относятся к духовной жизни. Однако привычные термины могут сыграть плохую шутку, создав иллюзию понимания проблемы. Поэтому я сознательно избегаю этой классификации.
Бхактивинода Тхакур: «Облачённые в одежды духовности, но не живущие по законам духовности – не кто иные, как лицемеры. Есть две категории лицемеров – обманщики и глупцы, а также обманщики и обманутые». «Саджана-тошани», 10/11.
«“Вот духовный учитель в ученической преемственности, и чтобы понять изначальное, традиционное знание, мы должны полагаться на него”. С этим согласится каждый, кто стремится к истине. А если вы проходимец, хотите чтобы вас обманули и обманывать других, то не примете этот закон. Девяносто девять процентов – обманщики и обманутые. Таково положение дел. Все эти обманщики обманывают других и соглашаются чтобы обманывали их. Утренняя прогулка, 21.03.1976. Майяпур.
Угроза ада может не звучать прямо, а подразумеваться, но легче от этого не становится.
Шрила Джива Госвами в комментарии к стиху анарпита-чарӣм̇ чира̄т так описывает дар Господа Чайтаньи: «Он приходит и приносит в дар сокровище бхакти. Это сокровище принимает три формы: серебряных и золотых монет, драгоценных камней, а также камней чинтамани – иными словами, садханы, бхавы и премы».
Письмо Шрилы Прабхупады Киртике, 21.05.1971.
«Шримад-Бхагаватам», 4.12.43, комментарий.
«Шримад-Бхагаватам», 3.15.24, комментарий.
«Вот шесть видов предания себя: принятие всего, что помогает преданному служению; отвержение всего, что мешает преданному служению; убежденность в том, что Кришна даст защиту; принятие Бога в качестве своего покровителя и господина; полное предание себя; смирение». Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 22.100.
Шрила Прабхупада рассказывал о своем последнем письме духовному учителю: «Я написал ему: “Дорогой учитель, другие ваши ученики – брахмачари и саньяси – столько служат вам. Я же домохозяин. Я не могу жить вместе с вами и так служить вам. Я даже не знаю, как я могу вам служить”. Так я размышлял – о том, как я могу ему служить. Как сделать для него что-то существенное».
Письмо Карандхаре, 22.12.1972.
Шри Чайтанья Махапрабху, «Шри Шикшаштака», 1.
«Над ними стоят чистые преданные Господа, находящиеся на трансцендентном уровне, выше гуны материальной благости. Они непоколебимо верят в абсолютное тождество имени, формы, славы и качеств Личности Бога. Для них слушать повествования о Кришне – все равно что видеть Его воочию». «Шримад-Бхагаватам», 3.5.14, комментарий.
Шри Чайтанья Махапрабху, «Шри Шикшаштака», 4.
Однажды Хаягрива, первый редактор Шрилы Прабхупады, набравшись смелости, спросил: «Шрила Прабхупада, как мне понять, что вы совершенны, если я целыми днями только и делаю, что исправляю ваши ошибки?» В ответ на это Прабхупада сказал: «Мое совершенство не в том, что я не допускаю ошибок, а в том, что Кришна принимает мое служение, даже когда я совершаю ошибки».
На моей памяти фанатичные последователи одного из таких проповедников на полном серьезе объясняли его появления в пьяном виде на публике «трудностями перехода от бхавы к преме».
Поэтому, например, Рупа Госвами в качестве примера преданных, медитация на которых помогает обрести любовь к Богу, приводит Билвамангалу Тхакура, столкнувшегося на своем пути со множеством препятствий.
«Так что практика йоги... Это более или менее материальная деятельность. Потому что, когда они обретают какую-то силу, начинают показать какие-то чудеса, то люди смотрят на них, раскрыв рот: “О, он сотворил чудо!” В Бенаресе, в Индии, жил один йог. Он занимался тем, что каждому, кто приходил к нему, давал две или четыре расагулы. И так сотни и тысячи образованных людей становились его последователями просто из-за этого фокуса, расагулы, которая стоит то всего четыре анны. Так что люди сами хотят этого шарлатанства. А те, кто ищут себе почитателей или стремятся к каким-то материальным достижениям, демонстрируют его...». Вопросы и ответы, 6.09.1966.
«О Господь, у меня нет премы, и я не способен практиковать бхакти, слушая о Тебе и прославляя Тебя. Я не медитирую на Вишну, как это делают аштанга-йоги, не развиваю гьяну и не исполняю своих обязанностей в рамках варнашрамы. Само мое низкое происхождение не позволяет мне заниматься всем этим как положено. Но Ты, о дорогой возлюбленный гопи, проявляешь наибольшую милость к самым недостойным, поэтому, хотя мое сердце нечисто, меня по-прежнему не отпускает страстное желание достичь Тебя». «Бхакти-расамрита-синдху», 1.3.35.
«Когда в конце лекции Прабхупада попросил задавать вопросы, к микрофону подошел человек и с вызовом выпалил: “Можете показать мне чудо?” Мы подумали, что он требует, чтобы Прабхупада создал пепел на ладони, как это делает Саи Баба и другие. Прабхупада окинул взглядом сто пятьдесят преданных, сидевших на сцене перед ним, жестом очертил всех нас и и сказал: “Вот мое чудо. Я превратил этих млеччхов и яванов в вайшнавов”». «Воспоминания о Шриле Прабхупаде», том 3, глава 41.
Письмо Махапуруше, 2.07.1969. Письмо Хамсадуте, 2.01.1969.
Письмо Хамсадуте, 3.12.1968.
«Шримад-Бхагаватам», 3.4.28, комментарий.
«Вы должны обратиться к правильному человеку. Но мы этого не делаем. Тасма̄д гурум̇ прападйета, тад-виджн̃а̄на̄ртхам̇ са гурум эва̄бхигаччхет. Это указания Вед. Джигьясу – наш естественный инстинкт, но мы идем к тому, у кого знаний нет. В этом вся трудность. Мы идём не туда. Хотя знание уже есть, ведическое знание – много Вед, Упанишад, “Веданта-сутра” и “Бхагавад-гита”, “Рамаяна”, “Махабхарата”, Пураны – но систематического изучения этих книг нет. Мы проходим мимо него». Интервью, 17.08.1976.
«А за этим, за преданием, следуют вопросы. Чтобы задавать вопросы духовному учителю, нужно обладать недюжим разумом. Без вопросов вы не сможете развиваться. Так что не может быть и речи о слепой вере. Но вопросы не должны быть вызовом. Исключено. Вопросы и ответы нужны для того, чтобы понять». Лекция по «Бхагавад-гите», 24.08.1966.
Это явление настолько распространено, что позволило одному из виднейших лингвистов современности, Н. Хомскому, утверждать, что «религия исходит из предположения о том, что Бог – идиот».
«Шрила Рупа Госвами говорит, что его старший брат (Санатана Госвами) в качестве руководства для вайшнавов написал “Хари-бхакти-виласу”, включив в нее многочисленные правила, которым должны следовать вайшнавы. Некоторые из этих правил особенно важны, и сейчас Шрила Рупа Госвами ради нашего блага перечислит их. Имеется в виду, что Рупа Госвами намерен назвать только основные принципы, не касаясь деталей». «Нектар преданности», глава 6.
«Встретив же равного, вместо того чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него как на своего друга». «Шримад-Бхагаватам», 4.8.34, комментарий.
На самом деле не доказал.
На самом деле не формирует.
«Таково указание Бхагаваты: авичйуто ’ртхах̣ кавибхир нирӯпито йад-уттамаш́лока-гун̣а̄нуварн̣анам [Шримад-Бхагаватам, 1.5.22]. Я неоднократно говорил об этом: если вы, будучи ученым, объясняете Кришну научным образом, то ученые смогут оценить Кришну по достоинству». Утренняя прогулка, 25.09.1972.
«Шри Чайтанья Шикшамрита», 1.1.
«Позже вечером, вернувшись в квартиру, Прабхупада выразил печаль по поводу того, что некоторые из его учеников покинули сознание Кришны. Он рассказал Умапати, что, когда жена одного из учеников-санньяси Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати насильно утащила своего мужа, Бхактисиддханта Сарасвати проливал слезы из-за того, что не смог спасти ученика. Ученик под влиянием майи может пасть, сказал Прабхупада, но духовный учитель никогда не оставит его». «Шрила Прабхупада-лиламрита», 7.2.
Согласно статистическим исследованиям, среди верующих людей в Европе число активных искателей Истины составляет около 6%. 94% – это пассивные потребители псевдодуховных благ. Robert Manchin. Religion in Europe: Trust Not Filling the Pews. Gallup. 2004.
«Обучить все человеческое общество приемам духовной жизни как основы для сбалансированного психического и биологического развития и тем самым впервые в человеческом обществе достичь реального мира и единства между противоборствующими силами в современном мире». Формулировка первой цели ИСККОН в черновом варианте юридического документа, составленного Шрилой Прабхупадой накануне регистрации ИСККОН (Constitution of Association).